каталог |
![]()
Перевод с английского Н.М. Евдокимовой и В. Хромова
Рис. К. Дорона
Источник:
Изобретатель и рационализатор. – 1974. –
№ 2. C. 43–48; № 3. C. 36–41; № 4. C. 42–46, 3-я стр. обложки; № 5. C. 42–45;
№ 6. C. 42–46; № 7. C. 39–43; № 8. C. 46–47; № 9. C. 37–42.

Красным шрифтом в квадратных скобках обозначается конец текста
на соответствующей странице печатного оригинала указанного издания
![]()
* * *
|
Даниил Гранин. Тем, кто предпочитают истину Послесловие к роману Н. Винера «Искуситель» |
![]()

|
Тем из изобретателей, кто житейским благам предпочитает истину. |
Некролог в «Нью-Йорк глоб» от 7 мая 1958 г.:
«7 мая. – Вчера вечером в клубе «Да Винчи» скоропостижно скончался бывший главный инженер фирмы «Уильямс контролс» Грегори Джеймс, своею деятельностью немало способствовавший становлению атомного века. Покойному было 76 лет.
Он родился в Одессе (Россия), в 1902 г. окончил Федеральный политехнический институт Цюриха, долгое время работал в Нью-Йорке главным инженером фирмы «Уильямс контролс», удалился от дел в 1950 г.
Одно время Грегори Джеймс был ректором Колумбийского института инженеров-кораблестроителей, он состоял членом виднейших технических объединений и обществ. Последние годы, удалившись на покой, он проживал в клубе «Да Винчи». [№ 2, c. 43]
Он никогда не был женат, у него нет прямых наследников».
Заметка на первой полосе «Нью-Йорк глоб» от 14 мая 1958 г.:
ЗАПИСКИ ДЖЕЙМСА
Не в них ли – ключ к предыстории ракетного века?
После смерти бывшего главного инженера «Уильямс контролс» Грегори Джеймса, скончавшегося на прошлой неделе, обнаружен запечатанный конверт, адресованный Грегори Уильямсу – сыну покойного основателя фирмы Мордкея Уильямса.
В своем интервью мистер Уильямс заявил:
– Отчасти рукопись посвящена личным вопросам, в основном же освещает историю контрольно-измерительной индустрии. Рукопись следует считать литературным завещанием мистера Джеймса.
Рукопись представляет немалый общественный интерес. Я убежден, что, если отредактирую ее и издам, то выполню последнюю волю мистера Джеймса.
Грегори Джеймс – Ованес Агапян – родился в 1882 г. в Одессе, в семье зажиточного армянского ученого-ориенталиста. Закончив гимназию, он поступает в Политехнический институт в Цюрихе (Швейцария) где знакомится с Диего Домингецом – циркачом, наездником, отчаянным малым, убежавшим, чтобы учиться, из дома своего отца, мексиканского аристократа.
После института Агапян, изменивший свою фамилию на русский лад – Яковский, – приезжает в Соединенные Штаты, где его дядя, мелкий торговец Кабирян, знакомит юношу с пожилым бизнесменом Стандишем.
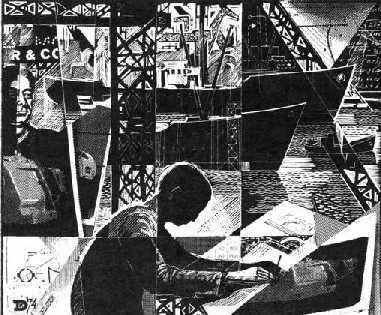
1902–1903
– Итак, – сказал Стандиш, – мистер Кабирян уверяет, что вы намерены штурмом взять цитадель американской техники. Восхищен вашей смелостью. Мистер Кабирян лестно отзывается о вашей учебной подготовке. Но прежде всего расскажите-ка, что вы намерены делать и что согласились бы делать.
– Я хочу работать инженером, –ответил я. – В вашу страну я прибыл буквально на днях. Мои представления об американской технике слишком скудны и не позволяют мне судить, где именно я впишусь в общую картину и на каком участке принесу пользу, но делать я согласился бы что угодно (ничуть не преувеличивая), лишь бы приступить к деятельности инженера.
Стандиш покосился на мои ладони.
– Гм, чересчур нежны, – заметил он. – Скажите, а простирается ли ваше согласие на мозоли и грязь под ногтями?
– Безусловно, простирается, – ответил я. – Меня заботит другое: я не знаю, как следуя путем грязи и мозолей, попасть в технику. С чего надо начинать?
– С заводских ворот, – ответил Стандиш. – Пока вы не располагаете опытом работы на американском производстве – да и вообще, насколько я понимаю, на каком бы то ни было производстве, – с вами ни одна техническая фирма и разговаривать не станет. Согласны ли вы бродить от ворот к воротам, предлагая свои услуги в качестве чернорабочего?
– Согласен, – отвечал я.
– В таком случае, вот вам список технических предприятий Бостона, где, возможно, требуются рабочие. Моя фирма здесь не фигурирует, так как я больше не принимаю активного участия в ее делах, и навряд ли последние полгода она особенно процветает. Как видите, я указал, каким транспортом добираться до каждого предприятия, и расположил их в порядке, так сказать, привлекательности, по нисходящей. Позвольте дать вам несколько советов. В том случае, если вас где-то наймут, вы должны будете, не медля, приступить к работе. Не ходите же наниматься в хорошем костюме, вроде сегодняшнего, и ни в коем случае не надевайте одежду европейского покроя. Далее: я вижу на вас пенсне. Если ваше зрение нуждается в коррекции, купите очки в стальной оправе. Они не так претенциозны, а в цехе – безопаснее. Следующее: надо отметить, что вы вполне прилично владеете английским, но это – английский язык Англии. Здесь он не пользуется популярностью. Я не рассчитываю, что вы в один миг измените свою речь. Но вот пробудете здесь подольше, узнаете, как говорят окружающие, – разговаривайте подобно им.
И главное. Вы начинаете с азов, а это значит – снизу. Не привередничайте и не считайте себя выше окружающих. На первых порах не ждите успеха, но и не отчаивайтесь. Когда пооботретесь и поймете, что к чему, – приходите ко мне опять, буду рад помочь вам советом. А пока – выше голову. Желаю удачи.
Дядя мой, чувствуя себя у Стандишей не в своей тарелке, ерзал в кресле. Я сунул в карман список мистера Стандиша и решил последовать всем его советам.
Начался обход фирм, которые, если рассуждать теоретически, могли бы предоставить мне работу. Я не надеялся найти место в первой, второй или даже десятой по счету фирме, но и не был подготовлен к унылой процедуре поисков работы. Вечер за вечером я, подавленный, возвращался домой с гудящими ногами. Одна фирма закрылась, другая, испытывая затруднения, увольняла часть рабочих, третья принимала только опытных. Я уж было совсем разуверился в том, что когда-либо подыщу себе место.
Но вот на полпути к округу Эссекс, в Кромере, я посетил Бэйсайдский завод корпорации «Бэйсайд Энджиниринг», расположенный среди соляных болот, в устье какой-то речушки. Длинные, приземистые здания цехов походили на депо и изобиловали окнами, где стекла потускнели от пыли и паутины, а то и просто отсутствовали, выбитые меткой рукой окрестных мальчишек. Корпорация занималась изготовлением стационарных паровых двигателей.
У центрального входа я осведомился, к кому надо обратиться по поводу приема на работу, и меня направили к прокопченной задней двери с табличкой «Кадры». Следуя стрелкам-указателям, я пересек две или три узкоколейки, по которым сновали вагоны-платформы. В запущенной конторе, разделенной перегородками чуть выше человеческого роста, пропахшей дымом и сухим лаком, за деревянной стойкой восседал какой-то человек. Он с сомнением взглянул на мои руки.
– Новичку, знаете ли, нечего рассчитывать на многое. Работа у нас здесь нелегкая, да и с людьми нашими поладить нелегко. Вы уверены, что хотите попасть именно на такую работу?
– Уверен, – ответил я.
– Ладно, тогда вот вам записка, отнесете Биллу Фланагану в 15-й цех. Там очень быстро выяснится, справитесь вы или нет. Только потом не жалуйтесь, не говорите, будто вас не предупреждали!
Я пересек огороженную территорию завода, усеянную грудами ржавого металлолома, поросшую лопухами и цикорием, и подошел к длинному мрачному строению, откуда, казалось, неслись все шумы ада. Это был цех, где ремонтировали старые котлы.
Плечистый верзила Билл Фланаган носил старый комбинезон, некогда синий, теперь же до того изъеденный пятнами ржавчины, что о первоначальном цвете оставалось лишь догадываться. Фланаган командовал бригадой рабочих, сгружавших с вагон-платформы старый котел. На меня он едва глянул. Пробежал глазами записку и сказал:
– Конечно, займись-ка вместе с ребятами вон тем канатом, да не тяни, пока я не крикну. Знай себе, смотри, что делают другие, и делай, как они.
Когда гудок возвестил об окончании рабочей смены, спина и плечи у меня ныли, а руки сплошь покрылись мозолями в два слоя. Смертельно усталым, побрел я в грязную душевую.
Я подыскал комнату в пансионе у матушки Коркоран, достойной вдовицы, чей муж работал на Бэйсайдском заводе и был убит сорвавшимся с креплений котлом. Подавляющее большинство ее жильцов тоже работало на том же заводе. Матушка Коркоран содержала заведение в чистоте, кормила сытно, хоть и без разносолов, а дисциплину блюла не хуже армейского сержанта. Под самой крышей у нее оказалась свободная комнатушка. Пуста она была, как [№ 2, c. 44] отшельничья келья, но там имелась удобная постель, а в углу стояла железная печурка.
Постепенно я стал различать других жильцов. Вот старый чудаковатый Ларс Густавсон, швед, по профессии наладчик. Вот мистер Картер, прежде – чертежник из отдела двигателей, ныне нигде не работает; по-видимому, перешел на иждивение многочисленных родственников. Ходят слухи, будто он пристрастился к спиртному. Мисс Эллис, язвительная старая дева, преподает английский язык в средней школе. По-моему, ей бы больше подошло преподавать дисциплину и этикет. В пансионе она задавала тон. В этом плане никто из жильцов не был склонен обижать ее, кроме, пожалуй, Майка Хенесси – юного рыжего ирландца из бухгалтерии.
1903–1904
Меж тем все катилось по налаженной колее: пансион – завод, завод – пансион. Волдыри на руках больше не взбухали, ладони у меня стали мозолистыми и почернели от въевшейся копоти. Теперь я уверенно разбирался в тайнах разводного ключа и кувалды.
Меня перевели в цех, где разрабатывалась новая модель парового поршневого двигателя. Я измерял планиметром индикаторную диаграмму за индикаторной диаграммой. Взвешивал конденсированный пар, пока весь мир для меня не пропах влажным ржавым чугуном. Овладел токарным и строгальным станками, так что, когда сломался старый ползун поршневого штока, я экспромтом сконструировал новый и выполнил его в точно заданных размерах. Постиг премудрость заливки металлических подшипников баббитом. Короче говоря, я стал мастером на все руки.
Примерно тогда же объединились многие из мелких технических компаний. Нашу фирму поглотил какой-то синдикат. Значительное число рабочих было уволено, и среди них оказался я.
Снова начались просмотры газетных объявлений, обходы заводов и всевозможных бюро найма. Однако я уже не был желторотым новичком. У меня накопился двухгодовой опыт работы. Английским я, пожалуй, владел немногим лучше, чем в день приезда, но моя речь теперь меньше резала слух товарищей-рабочих. На сей раз мне с порога не отказывали. Я видел, что мою кандидатуру серьезно рассматривают, и если она отвергается, то по веской причине.
Первые дни поисков работы нанесли легкую царапину моему самолюбию, но не уязвили его. Я решил написать мистеру Стандишу. Передо мною – его ответное письмо. Я бережно хранил и храню этот документ, как пропуск, открывший мне двери ко всей дальнейшей карьере. Вот текст:
Дорогой Мистер Яковский!
Я огорчился, узнав, что Вы опять подыскиваете работу. Такое случается с каждым, и программа подготовки молодого специалиста требует, чтобы он понимал это обстоятельство и был готов к подобным непредвиденным случайностям.
Изредка я вижусь с Вашим дядюшкой, и он с восторгом показывает мне Ваши письма. Очевидно, Вы как нельзя более толково распоряжались своим временем. По-видимому, Вы обладаете силой воли, необходимой каждому, кто желает зарабатывать себе на пропитание в качестве инженера.
Более того, сторонкой я навел о Вас справки на заводе, где Вы работали. У высокого начальства удалось разузнать не многое, поскольку оно слишком далеко от начинающего юнца и может о нем даже не слыхать… Но есть у меня там знакомства среди рабочих, в частности, я знаю Ларса Густавсона: в мое время он был там наладчиком. Ларсу все не по душе, но о Вас он отзывается с ожесточенным неодобрением, которое, как я понимаю, равносильно самой высокой хвале.
Короче говоря, теперь Вы достаточно поработали на заводе и можете, не слишком преувеличивая, выдавать себя за опытного инженера. В таком случае, я могу помочь Вам несколько ощутимее, чем в первый раз.
Лет десять назад со мной работал Мордкей Уильямс. Это довольно толковый инженер, человек простой и грубоватый (родом с фермы из-под Нью-Йорка), но по-настоящему он развернулся в административной сфере техники. С тех пор он перешел в новоанглийскую кораблестроительную фирму «Олбрайт и сыновья». В финансовом отношении фирма терпела крах – затоварилась устаревшими изделиями, – и Уильямс успешно провел ее реорганизацию. Теперь фирма носит название «Уильямс и Олбрайт», и уж поверьте: то, что на первом месте стоит фамилия Уильямса – не просто случайность.
Контора фирмы находится в Бостоне на Атлантик-авеню. Был у меня записан точный адрес, но я его куда-то девал и теперь никак не найду; посмотрите в справочнике. В общем, я отправил Уильямсу письмо на домашний адрес, рассказал кое-что о Вас, дал понять, что Вы сейчас не у дел и могли бы пригодиться по научной части. Несколько лет подряд Мордкей мне жалуется, что в фирме нет первоклассного инженера-ученого, и просит подыскать им такого сотрудника. Для Уильямса все беды – оттого, что ученые не располагают заводским опытом, а инженеры не владеют теорией.
По-моему, сомнениям нет места: фирма возьмет Вас на работу. Поначалу Вам не приходится на многое рассчитывать: еле-еле хватит на трехразовое питание, да еще, пожалуй, раз в год – новый костюм и раз в неделю, в воскресенье – сигара. Зато с тех пор, как Мордкей перешел в эту фирму, она стала подходящим полем для продвижения способного молодого человека, к тому же Мордкей там за Вами присмотрит.
Хочу кое от чего Вас предостеречь. В Америке вновь прибывшим живется не сладко, иммигрантам армянского происхождения – не слаще, чем всем остальным. Вам на роду написано высоко взлететь, но часть пути к взлетной площадке придется преодолеть пешком, и незачем шагать с жерновом на шее. Смените фамилию, чтобы люди могли к Вам обращаться, не рискуя сломать язык. Ваш дядюшка перевел мне Ваши имя и фамилию как «Грегори, сын Джекоба». Как Вам нравится «Грегори Джеймс»? В конце концов, «Джеймс» – один из вариантов имени «Джекоб».
Горячо желающий Вам дальнейших успехов, искренне Ваш
Уолтер Стандиш.
Я высмотрел в справочнике адрес конторы «Уильямс и Олбрайт». Оказывается, она помещалась не на самой Атлантик-стрит, а на одном из отходящих от этой улицы старых волнорезов, в угрюмом гранитном здании. Внутри я обнаружил там своеобразную смесь современных суеты и энергичности (отнес на счет Уильямса) с атмосферой салемской конторы (должно быть, влияние Олбрайта).
Секретарша постучалась в дверь кабинета с табличкой «Питер Огастес Олбрайт-IV». Меня позвали внутрь, и я очутился лицом к лицу с высоким и сухопарым человеком за письменным столом; у человека были мохнатые брови, крючковатый нос, отлично сшитый костюм и сорочка с высоким воротничком – такое можно увидеть на ранних фотоснимках Вудро Вильсона и Франклина Рузвельта. Меня поразили в нем самообладание и собственное достоинство, которым противоречило то, что он бросал на меня взгляды искоса, словно не вполне был уверен в себе.
– Мистер… – Он взглянул на новехонькую визитную карточку, специально заказанную для поисков работы. – Джеймс, кажется? Чем могу быть полезен?
– Я к вам насчет работы, сэр. Фирма, где я служил, свернула часть производства, и вот я опять ищу место младшего инженера. Насколько мне известно, кое-какими сведениями обо мне располагает мистер Уильямс.
Мистер Олбрайт в задумчивости постучал карандашиком по столу.
– Джеймс, Джеймс… Вы, случайно, не родственник ли тем самым Джеймсам? Так или иначе, фамилия хорошая, американская. А кстати, документы об образовании и прежней работе у вас при себе?
Я предъявил нотариально заверенную копию диплома и справку от фирмы «Бэйсайд Энджиниринг». Олбрайт погрузился в изучение. Когда он дошел до фамилии «Яковский», я подметил у него в глазах искру неприязни.
– Я вижу, эти бумаги принадлежат некоему [№ 2, c. 45] мистеру Яковски, а ваша фамилия Джеймс. Какое они имеют к вам отношение?
– Это мои документы, – возразил я. – Просто я сменил фамилию.
– Гм. Боюсь, у нас нет для вас ничего подходящего. Всего доброго, сэр.
Не помню уж, как вышел я из кабинета. Секретаршу в приемной удивил, должно быть, мой удрученный вид.
– Что случилось? – спросила она.
– К сожалению, у мистера Олбрайта не нашлось для меня места в фирме, – ответил я. – Что ж, попытаю счастья где-нибудь еще.
– Нет-нет, не уходите, – всполошилась она. – Только что приехал мистер Уильямс. Он особо спрашивал о вас и велел, чтобы я не упускала вас из виду.
Меня провели в кабинет поменьше, да и по-иному обставленный. У Олбрайта стены были выбелены, а мебель выдержана в стиле Салема 1820-х годов, здесь же стены были лакированные, меблировка аскетически проста и деловита.
За письменным столом, перед множеством бумаг, разложенных в образцовом порядке, сидел Мордкей Уильямс.
В то время он, уже изведав первые триумфы, все же знал, что дальнейшие возможны только ценой упорной борьбы и надо непрестанно быть начеку. Кость у него была тонкая, черты лица резкие: типичное лицо уроженца штатов Вермонт и Нью-Йорк.
Я протянул ему визитную карточку.
– Мистер Джеймс?.. Ах да, мистер Яковский! Мистер Стандиш рассказал мне о вас решительно все; мы дадим вам испытательный срок.
– Боюсь, сэр, из этого ничего не выйдет. Только что мистер Олбрайт дал мне от ворот поворот.
– Ну, Олбрайт! – отмахнулся Уильямс. – Он мой компаньон и добрый друг, но не стоит принимать всерьез каждое его слово. Он у нас ведает вопросами кораблестроения. Слыхали о верфях Олбрайта в Салеме? А я занимаюсь корабельной техникой, причем мистер Олбрайт в конструкторские бюро не заглядывает. И учтите: вы подчиняетесь непосредственно мне. Если кто-нибудь выведет вас из терпения, обращайтесь сначала ко мне, а уж потом принимайте иные меры.
Послушайте лучше, что вам предстоит у нас делать. Близится эпоха судов с электрическими двигателями, хоть такие двигатели и находятся пока в экспериментальной стадии. Зато будущее у них огромное. Капитану не надо будет надрывать глотку, передавая свои команды в машинное отделение, или посылать их по судовому телеграфу: все управление он сосредоточит у себя под рукой, тут же, на капитанском мостике. Это удобнее, да и безопаснее, на мой взгляд, особенно в водах с интенсивным движением – портах и т. п.
Есть у нас и другое преимущество. Установленный на судне мощный электрический генератор обеспечит энергией (и в достаточном количестве) вспомогательное оборудование. Ведь на всяком судне вспомогательного оборудования не счесть – вентиляторы, лебедки, кабестаны, рулевой привод и так далее. Эксплуатируется оно в хвост и в гриву. Никогда не знаешь, с чем оно столкнется в открытом море или же в порту при погрузке и разгрузке. Значительная часть оборудования попадает в руки портовых грузчиков, а те обращаются с ним так же нежно и бережно, как с лопатой.
Далее, оборудование оборудованию рознь. Вентилятор работает беспрерывно, с почти ровной нагрузкой, зачастую – в ограниченном пространстве. Надо следить, чтоб он не перегрелся. Рулевые двигатели то включаются, то отключаются, для них проблема перегрева не столь остра, но от них требуется максимальная надежность, иначе в тумане обязательно столкнешься с другим судном или, в лучшем случае, наскочишь на волнорез. А если говорить о рабочем режиме лебедок, то неизвестно, что именно придется им разгружать и грузить. Каждую минуту они должны быть готовы к внезапному рывку. Портовые грузчики – народ грубый. Сегодня вы грузите на палубу паровозы, а завтра, возможно, – смешанные грузы из трюмов. К тому же судовое оборудование должно быть безопасным, иначе владельцу придется выплатить столько штрафов, что он вылетит в трубу.
Электродвигатели непрерывно совершенствуются. При той же мощности уменьшаются их габариты, повышается надежность и упрощается управление. Однако важнейшие усовершенствования сосредоточены в руках двух-трех компаний. Не хотелось бы им кланяться, вот я и решил создать проектно-конструкторский отдел по разработке и изготовлению электродвигателей. Чтобы идея не вышла у меня из-под контроля, я должен располагать двумя-тремя хорошими патентами. Я уже приглядел заводики, которые, по-моему, можно прибрать к рукам, и тогда нашей организации гарантирована независимость.
Среди моих сотрудников есть толковый инженер-электрик, ему я решил поручить проблемы основного электрооборудования – генераторов, знаете ли, и двигателей для валов и судовых винтов. Фамилия этого инженера Уотмен; родился он на ферме, как и я, а образование получил в Висконсинском университете. Очень славный малый, но уверяет, что с проектированием основного электрооборудования у него хлопот полон рот. А мне нужен еще один человек, чтобы занимался вспомогательным оборудованием. Есть у вас инженерная подготовка и опыт работы?
– Подготовка-то есть, – отвечал я. – В Цюрихе электротехнику преподают превосходно, а я ею как раз увлекался. К сожалению, работать мне приходилось только с паровыми двигателями и всевозможными станками. В электротехнике я совершенно беспомощен.
– Ну что ж, по крайней мере, вы знаете толк хоть в каком-то инженерном деле, и при вашем образовании вам нетрудно будет переквалифицироваться. Зато не придется переучиваться, забывать старые знания, а в бурно развивающейся отрасли техники это – скорее даже преимущество.
Вы мне нравитесь, нравится все то, что я о вас знаю, поэтому я решил вас взять на испытание. Начнете с малого. Пока я могу вам предложить только две тысячи долларов в год. Но расти вы будете вместе с фирмой, и когда ваша стоимость в наших глазах повысится, я соответственно увеличу вам жалованье. Как, согласны?
Твердый годовой оклад две тысячи долларов показался мне по тем временам, когда жизнь была дешевле, целым состоянием. Раньше я получал всего двадцать пять долларов в неделю. Еще больше соблазняло меня положение человека, обеспеченного постоянной работой. Заикаясь, я выразил согласие и признательность.
– Прежде, чем соглашаться, осмотрели бы предприятие: тогда бы выяснилось, понравится ли вам здесь работать.
Он провел меня во внутренний двор конторы; там стояло нечто вроде хижины из досок и бревен. Неказистое было строение. Однако, войдя внутрь, я обнаружил, что помещение чистенькое и удобное. Я порылся в библиотечке и нашел почти все учебники, полюбившиеся мне я Цюрихском политехническом, а также новейшие английские и американские монографии, с которыми до сих пор не успел ознакомиться.
Потом мы зашли а конструкторское бюро, где мне отныне предстояло трудиться. Меня представили Биллу Уотмену – сутулому долговязому парню младше меня, молчаливому, но приветливому. Бюро было обставлено со строгой и даже аскетической простотой. Новехонькие, последнего образца кульманы оборудованы параллельными линейками, повсюду в изобилии миллиметровка и всякие чертежные принадлежности. Рядом с моим кульманом – старинный письменный стол, на нем – добротная пишущая машинка, высота удобного вращающегося кресла с откидной спинкой идеально соответствует условиям работы. На столе у меня уже лежат отточенные карандаши и технические справочники.
Когда мы вышли оттуда, Уильямс спросил:
– Ну и каково ваше мнение? Возьметесь за работу? Учтите, я готов дать вам на размышление день или два.
– Рабочее помещение симпатичное, – сказал я, – и жалованье подходит. Одного только я боюсь: вдруг не справлюсь.
– Это уж мой риск, – ответил Уильямс, – и я на него охотно иду. Приступайте к работе с завтрашнего дня. По-моему, не стоит инструктировать вас подробнее, пока вы не [№ 2, c. 46] освежили в памяти свои познания по электротехнике. За ближайшие три недели перечитаете учебники и войдете в курс. Да, и еще одно. Вы должны отчетливо представлять себе американскую систему патентования. Насколько я понимаю, у вас нет опыта работы с патентами.
– Да, – признался я. – В Цюрихском политехническом нам читали краткий курс патентоведения, но он охватывал европейские системы патентования – в основном швейцарскую, германскую и английскую. В последних лекциях профессор уделил несколько слов американской системе патентования, но осветил ее недостаточно, от этого не оттолкнешься.
– Неважно, – сказал Уильямс. – Я и не предполагал, что вы хорошо разбираетесь в патентоведении. Познакомлю вас с нашим юристом-патентоведом. Он лучше любого профессора научит вас всем тонкостям. Я всячески поощряю разговоры сотрудников на профессиональные темы. Из всех известных мне способов научиться чему-либо этот – наилучший. Если у вас появятся вопросы, не стесняйтесь, спрашивайте у нашего юрисконсульта. А если он ответит на них не вполне удовлетворительно, обращайтесь ко мне.
Он отвел меня в маленький, перегороженный надвое кабинет, где стояли конторка и шкаф с юридической литературой. За конторкой сидел продувного вида молодой человек в очках, перед ним лежала раскрытая подшивка патентов, а он усердно строчил аннотации старомодной вставочкой со стальным пером. Дописав фразу, он встал и поздоровался с нами.
– Мистер Каммингс, – сказал Уильямс, – познакомьтесь с мистером Джеймсом, Грегори Джеймсом. Он будет работать у нас в качестве инженера-электрика. Уотмен до того загружен тяговыми двигателями, что работу над вспомогательным оборудованием я вынужден поручить другому сотруднику, и мистер Джеймс согласился испробовать свои силы. Я посоветовал ему обратиться к вам, чтоб вы его мало-мальски просветили в патентной игре. Вы ему не поможете?
Каммингс пожал мне руку.
– Разумеется, мистер Джеймс, – сказал он. – Буду рад помогать вам в чем угодно. Я привык обучать молодых инженеров нашей фирмы начаткам патентоведения. Приходите, как выдастся свободная минутка, и мы вместе проработаем кое-что из основных положений. Удобно вам в следующий вторник, часа в четыре? К тому времени я разгребу текучку. Ведь самое полезное из всего, что я могу сделать, – это проследить, чтобы инженеры разбирались в патентовании и свою работу приносили мне в форме, пригодной к оптимальному использованию.
Я попрощался и домой к дяде, в Уотертаун, вернулся как по облаку. Отныне я стою на нужной ступеньке лестницы, ведущей к профессиональному успеху. А ведь в моей профессии можно далеко пойти.
…За пятнадцать минут до начала занятий я уже сидел на работе, за письменным столом. Еще через пять минут появился Билл Уотмен. Казалось, он от души желает сойтись со мной поближе и всячески старается быть хоть чем-то полезен.
– Отныне и впредь ты называешь меня «Билл», а я тебя «Грегори», – сказал он. – Могу я что-нибудь сделать, чтобы ввести тебя в курс?
– Хотелось бы побольше узнать о структуре фирмы, – сказал я. – В центральной конторе я напоролся на удивительно грозную личность. Он возымел обо мне не слишком-то высокое мнение. Расскажи-ка мне о нем.
– Ах, Олбрайт! – Мой собеседник отмахнулся. – Не надо из-за него переживать. Просто не попадайся ему на глаза. Заправляет здесь не он, а Уильямс, С тех пор, как он сцапал фирму «Олбрайт и сыновья», к нему перешли все полномочия Олбрайта. Сто лет назад родоначальник династии Олбрайтов был в Салеме важной шишкой. Представляешь? Огромный, деревянный, квадратной формы особняк с капитанской рубкой, корабли снуют в Калькутту и из Калькутты, верфь в устье реки и прочие атрибуты торгового принца.
Дом нынешних Олбрайтов – учреждение ужасно чопорное, миссис Олбрайт разливает чай с таким видом, будто подает на стол серу с патокой. Над камином висит портрет великого предка. Ты ведь знаешь, о каком портрете речь: фоном служит окно с плюшевыми занавесями, на предке цветастый халат, в руке подзорная труба, а за спиной виднеется торговый флот Олбрайтов. На голове у старца ночной колпак, смахивающий на тюрбан.
Носище у старца – точь-в-точь как у нашего Олбрайта, но выражение лица под стать хоботу, да и мохнатые брови тоже. Он был властен и могуществен, и нисколько этого не скрывал. В войну 1812 года держал каперы, причем одним из них командовал лично. Кроме того, в Салеме ходили слухи (я рассказываю со слов моего двоюродного деда), будто тот Олбрайт возил с африканского побережья слоновую кость, да и рабами торговать не брезговал.
О нем плетут, будто однажды он закупал партию тростниковых ножей, приготовленную к отправке в Вест-Индию и перепродал китобоям в гренландском заливе Диско. Китобоям ножи пришлись как нельзя более кстати при добывании ворвани из китовых туш. Эта операция принесла тому Олбрайту целое состояние, хоть он и без того был несметно богат и навряд ли заметил деньги, заколоченные на ножах, – их затмили уже имевшиеся денежки.
Еще до войны Севера с Югом Олбрайты отошли от морских перевозок и стали уделять все больше внимания судостроению. С их стапелей сходили отличные клипперы для ввоза китайского чая. Но война снизила спрос на парусники, а из-за конкуренции новых железных судов их производство на какое-то время чуть не свелось на нет. Впоследствии «Олбрайт и сыновья» занялись созданием железных, а затем стальных судов, но младшие Олбрайты никогда не могли даже мысленно потягаться со стариком.
Тот оставил семье немалые средства. Большинство наследников вложило деньги в медные акции (знаешь, «Калумет энд Хекла») и с тех пор живут в почете и довольстве под сенью дедовой славы. Судостроительная верфь осталась на месте, но пришла в упадок.
А Уильямс к тому времени уже несколько лет занимался судовой техникой. Но ему вовсе не по душе было ставить оборудование на суда чужого дяди. Он сам хотел утвердиться в судостроении. Вот он и решил завладеть фирмой «Олбрайт и сыновья». Фирма находилась не в блестящем состоянии, но сохранила старинное имя и стапеля, откуда можно спускать суда в глубокую воду. Уильямсу нужны были стапеля и имя, а в придачу он согласился взять Олбрайта. С тех пор Олбрайт задает фирме тон, а Уильямс следит за тем, чтобы судостроительная сторона дела не отставала от эпохи.
Тебе, наверно, хотелось бы кое-что узнать и об Уильямсе. В те давно минувшие дни, когда вступить в игру можно было благополучно и не кончая колледжа, он работал инженером в каком-то из западных штатов. Технические его познания немножко устарели, да он и сам это понимает. Зато у него хватает здравого смысла нанимать сотрудников, досконально изучивших новую технику.
Он распоряжается кредитами фирмы и больше почти ни во что не лезет. Не стану отрицать, на его совести – довольно-таки сомнительные сделки. В глубине души он немножечко пират, но, по крайней мере, у него хватает совести порядочно поступать со своими сообщниками. Олбрайт преисполнен добродетелей и высоких моральных чувств, но он, глазом не моргнув, уволит вас, едва только заподозрит, что вы не приносите фирме дохода.
Между прочим, звонок был четверть часа назад, так что просматривайте-ка свою почту да беритесь за работу.
Я принялся перечитывать учебники по электрическим машинам и листать новейшие работы, написанные за последние три-четыре года. К середине рабочего дня в голове у меня бушевал вихрь таких понятий, как напряженность магнитного поля, петля гистерезиса, потенциал зажигания, волновая и петлевая обмотки, – весь шаманский жаргон создателей электрооборудования.
Когда пробило час пополудни, Уотмену пришлось трижды окликнуть меня, прежде чем я отвлекся от книг и принял его приглашение перекусить в кафетерии напротив. [№ 2, c. 47] Вторая половина дня прошла, как и первая, в напряженном дурмане. Я был только рад, когда рабочий день кончился и на пути домой появилась возможность привести мысли в порядок.
Нахлынули на меня думы о студенческих годах, о Домингеце, и я вдруг вспомнил, что вот уже более года не получаю от него никаких известий. Подобно мне, он продирался на заводе сквозь дебри ученичества и черной работы, хоть и в другой фирме и другом маленьком городке.
В записной книжке я разыскал последний из его адресов, известных мне. В тот же вечер я написал Домингецу. Сообщил, что самое трудное у меня уже позади. Надеюсь, мол, что и у него тоже. А теперь, мол, у меня, по крайней мере, есть возможность возобновить переписку с друзьями.
Через несколько дней я получил ответ на бланке Фэйрвью-колледжа, город Ист-Брайэм, штат Массачузетс.
Милый Грегори!
(ведь я теперь должен называть тебя американским вариантом твоего имени).
Был в восторге, получив от тебя весточку. Ты весьма подробно отчитался в том, что с тобой происходило за это время. Отплачу тебе той же монетой. Если помнишь, меня ожидала должность в фирме «Консолидейтид Дженерейторс» в Сиракузах, штат Нью-Йорк. Устроил меня туда Майк Эдвардс, помнишь, щуплый студентик. В «Консолидейтид Дженерейторс» его дядька занимает высокий пост, поэтому рекомендация Майка сослужила мне хорошую службу.
В цехах я прошел примерно через то же, что и ты, но у меня не оказалось ни твоего всеприятия, ни твоего смирения. Откровенно говоря, я всегда полагал, что махать молотом да орудовать гаечным ключом, зажатым в мозолистой руке, – занятия, недостойные благородного человека.
В «Консолидейтид Дженерейторс» я недурно справлялся с обязанностями, но повышали меня, на мой взгляд, чересчур медленно. Я всегда разделял мнение теннисоновского «северного крестьянина»: путь преуспеяния в мире сем – это путь туда, где деньги лежат. Однако в ту пору влияние мое на мистера Эдвардса было недостаточно, чтобы обращаться к нему с новой просьбой, а другими знакомствами среди начальства я не обзавелся.
Но события повернулись иначе. Мне всегда казался родственной натурой священник нашей церкви мистер Маннинг. Он тоже нравится женщинам и тоже твердо вознамерился преуспеть в жизни. В его случае к успеху вела модная церковь в большом городе – оттуда можно прорваться на какую-либо административную должностишку. Я знал, что этот человек своего добьется, и сделал на него ставку.
Я поставил на верную лошадь. Года не прошло, как мы с ним познакомились, а он уже получил кафедру английского языка и риторики в Фэйрвью-колледже, в одноименном городе.
Ситуацию я оценил правильно. Три месяца назад умер прежний ректор. Кто же уселся в освободившееся кресло, как не преподобный мистер Маннинг? Он стал подбирать новых сотрудников, и одно из первых писем-приглашений было направлено твоему покорному (но не слишком покорному) слуге. Маннингу нужен именно такой человек как я. Мне предоставили выбор между кафедрами физики и математики. Я выбрал титул «профессор математики» – правда ведь, внушительно?
Теперь ты знаешь, где меня найти, вот и приезжай, когда позволит твоя новая работа. Меня здесь встретили с распростертыми объятиями. Может быть, ты здесь познакомишься с людьми, которые тебе в дальнейшем пригодятся.
Искренне твой Диего.
В то время я не мог выбраться к Домингецу, но решил съездить к нему при первой же возможности. Между тем продолжалась текучка – я усердно учился. Оказалось, что у Каммингса можно многое почерпнуть, и все почерпнутое я бережно хранил в памяти, рассчитывая использовать в будущем. Раньше я принимал патент за чистую монету, то есть за способ поощрить изобретателя, предоставив временную монополию на плод его разума. Теперь я стал понимать, что дело обстоит куда сложнее. В своей наивности я рассматривал выдачу патента как гарантию ценных прав на существенные особенности изобретения. Теперь я узнал, что абсолютно законный патент может гроша ломаного не стоить, что представляемые патентом права больше зависят от квалификации юриста, который его формулировал, чем от достоинств самого изобретения.
Сердце изобретения – патентная формула, и ее пункты надо составлять с величайшей точностью; точность эта, казалось мне, зависит не столько от принципов истины и рационализма, сколько от комплекса правовых условностей. Ценность изобретения имеет крайне мало общего с подлинной его сущностью. Мне вдолбили, что слишком узкая формула не предоставляет изобретателю мало-мальски существенных прав, тогда как формулу слишком широкую почти наверняка забракует патентная экспертиза. Нежелателен чересчур добросовестный охват сути изобретения: создается видимость, будто сформулирован закон природы, а законы природы не подлежат патентованию; зато вполне патентоспособно остроумное усовершенствование, если его можно соотнести с каким-то ремеслом. [№ 2, c. 48]
Только через две недели удалось мне выбраться к Диего в Ист-Брайэм.
По адресу, указанному Диего, я обнаружил особняк, достаточно вместительный, но не столь ухоженный, как обиталище ректора и прочих именитых лиц колледжа. Оказывается, там находилась местная гостиница, где жили многие холостые преподаватели. Диего ждал меня у дверей. Позади него стояла какая-то матрона, на вид добродушная и хлопотливая.
– Здравствуй, Грегори! – окликнул меня Диего.– Добро пожаловать в наши академические пенаты! Миссис Гендерсон, это Грегори Джеймс, друг моих суровых студенческих лет в Цюрихе. А это миссис Гендерсон, добрый дух гостиницы. Она создает нам условия много более сносные, чем мы, неблагодарные, заслуживаем. Пойдем же, я покажу тебе твои апартаменты.
Диего занимал номер на третьем этаже. В спальне – старинная комфортабельная кровать на четырех столбах, с ситцевым пологом. В гостиной – веселенькие светлые обои, два удобных мягких кресла и большой книжный шкаф с технической литературой, романами и сборниками стихов. Вместо письменного стола у окна – большой квадратный стол, а на нем – куча бумаг, разбросанных в беспорядке и в то же время не без какой-то упорядоченности. Природная небрежность Диего явно сталкивалась здесь с совершенно иным характером миссис Гендерсон. Очевидно, добрая душа каждое утро бралась за сизифов труд – наводила порядок на столе у Диего.
– Да, я здесь очень недурно устроился, – сказал Диего, – с удовольствием преподаю. В свободные часы занимаюсь научной работой. Да вот, кстати, я приготовил для тебя оттиски.
Оттиски я сунул в портфель, чтобы просмотреть позднее. Очевидно, в них трактовались различные вопросы, связанные с математикой теории контуров, – темой, по которой в то время мало появлялось работ. Впоследствии, ознакомясь на досуге, я обнаружил, что это – достойные научные труды. Там не нашлось ни одной идеи, которая была бы бесспорно нова или бесспорно принадлежала бы Диего. После прочтения у меня осталось чувство, что этот человек далеко пошел бы, захоти он по-настоящему трудиться в своей области, да вот беда – он не умеет хотеть. Диего произнес несколько слов по поводу содержания своих статеек, но мы не стали на этом задерживаться. Мы принялись делиться новостями и перескакивать с предмета на предмет. Незадолго до того я прочел книгу о Мексике и теперь начал расспрашивать Диего о нынешнем положении вещей у него на родине.
– Да, знаешь, – отвечал Диего, – я ведь совершенно утратил все связи с родиной. Мать умерла пять лет назад. Отца я знаю слишком хорошо, чтобы писать ему. Лишив меня наследства, он всю свою принципиальность устремил на то, чтобы сдержать слово и забыть о моем существовании. Мы, Домингецы, все такие. На месте отца я бы поступил точно так же. Слово Домингеца нерушимо.
Раздался звонок к обеду, и мы спустились в чистенькую столовую, где за столиками на четверых сидели преподаватели колледжа, в подавляющем большинстве мужчины, но с незначительной примесью женщин. Все разговаривали между собой, в зале стоял гул, но из-за того, что присутствующие разбились на четверки, общая беседа была невозможна или, по крайней мере, затруднительна. Преподавательские сплетни оказались такими же скучными, как и вопросы, которые мы обсуждаем в обеденный перерыв на Атлантик-авеню.
В эту пору Фэйрвью-колледж отличался приятнейшей атмосферой замкнутости, которая развеялась в сутолоке и модернизме университета Фэйрвью. То была маленькая тихая заводь просвещения, где преподаватели благоговели перед величием Гарварда, Иэйла, Колумбийского университета в Нью-Йорке и Чикагского университета. Даже в те дни баснословно дешевой жизни преподавательский труд оплачивался возмутительно низко. Жили преподаватели стесненно, зато (в пределах этой стесненности) уютно и вполне терпимо. Более того, даже марка прославленных университетов не многих из них соблазнила бы расстаться с Фэйрвью, если только расставание не связано было со значительной прибавкой жалованья. Со студентами я почти не встречался. По подкованности в науках их навряд ли можно было сравнить с нынешними. Однако они располагали большим досугом и питали большее уважение к человеческой личности. Ах, к нынешнему бы превосходному образованию – да былое свободное мировоззрение!
– Между прочим, – сказал Диего после обеда, – сегодня мы приглашены на чашку чая к Мэтьесонам. Я там упомянул как-то о тебе. Они будут очень рады, если ты придешь. Знаешь, Стэнли Мэтьесон и его супруга. Мистер Мэтьесон – весьма преуспевающий биржевик с Уолл-стрит, на субботу и воскресенье ему удается вырваться сюда на отдых. В высшей степени интересный человек. Юность провел на фронтире в Техасе. Рассказывает потрясающие истории из тамошнего быта. Я ведь сам не чужд фронтира, но мне и не снилось, что там человек может набраться такого яркого и богатого жизненного опыта, как у мистера Мэтьесона.
Да и с миссис Мэтьесон стоит познакомиться. Она у него вторая жена, много моложе. В юности была нью-орлеанской красавицей: плантация, большой дом среди деревьев и бородатого испанского мха, родной язык – французский, сезон в Париже, свои лошади и собаки, монастырское воспитание, умеет стряпать креольские блюда. К тому же собою ослепительно хороша.
Мистеру Мэтьесону под семьдесят. Хоть на вид он и крепок, но нуждается в уходе, а Селеста нянчится с ним, как с дитятей, и притом старому боевому коню даже в голову не приходит заподозрить ее в излишней заботливости. Слов нет, я от души восхищаюсь этой женщиной.
Во второй половине дня мы пешком прошлись к одному из домов, укрытых за каменной оградой. Когда мы вошли в широкую дверь под портиком колоннады, негр-дворецкий принял у нас пальто.
Холл и лестница с широкой балюстрадой были увешаны полотнами. В основном были представлены ранние американские пейзажи, преимущественно Гудзонской школы, но поражали воображение два портрета в духе Сарджента. Один, над лестничной площадной, изображал Селесту. Другой, на стене напротив, – самого Мэтьесона. Мэтьесон в костюме для верховой езды стоял на фоне голубого неба и сухих, бескрайних заснеженных степей Техаса. Его жена, очаровательная молодая дама в белом бальном платье, стояла в изысканной позе на гармонирующем с нею фоне гостиной южного особняка. Художник воплотил на холсте мысль о том, что богатство – не просто дар фортуны, а духовная ценность в себе и для себя.
К стыду своему, я забылся, заглядевшись на портреты. Привел меня в себя и напомнил о светских обязанностях легкий сквознячок, от которого зазвенели подвески на люстре. Меня ввели в большую, со вкусом обставленную залу, где уже беседовали несколько гостей.
Чету Мэтьесонов я сразу узнал по сходству с портретами. Правда, Мэтьесон в жизни выглядел постарше, чуть румянее и капельку важнее, чем энергичный владелец ранчо на Западных равнинах. Миссис Мэтьесон казалась значительно старше, чем на портрете, но ничуть не менее привлекательной. Очевидно, она принадлежала к тому типу женщин, чья красота не зависит от возраста.
– Так вот вы какой, мистер Джеймс! А я о вас столько слышала от профессора Домингеца! Диего у нас – один из лучших друзей. Он придает блеск нашим унылым воскресным чаепитиям.
Тут как раз вошел ректор Маннинг под руку с женой. Мы перемешались с симпатичной группой преподавателей колледжа.
Маннинг – рослый человек с великолепной осанкой. Он сохранил спортивную подтянутость, хоть давно бросил заниматься спортом. Уже можно было заметить, где именно щеки его набрякнут, кожа на шее сморщится, а фигура потребует ухищрений искусного портного. Голос у него зычный, хорошо поставлен. Тренированный и к месту употребляемый голос профессионального оратора. Немного погодя, Диего представил меня Маннингу. Моему другу пришлось приложить немало стараний и усилий, чтобы изловить его в толпе преподавателей. Но когда Маннинг изыскал время познакомиться со мной, то ухитрился внушить мне впечатление, будто я – единственный в мире человек, представляющий для него хоть какой-то интерес.
1904–1908
В поезде, возвращаясь в Бостон, я думая о предпринятой поездке. Диего проявил беспредельное и, по-моему, искреннее дружелюбие. За последние два года мы с ним порядком отдалились друг от друга. Для Диего Фэйрвью-колледж стал прекрасной отправной точкой для штурма социальной лестницы. У меня же не было ни подходящего характера, ни удобного случая, чтобы вскарабкаться на эту лестницу.
В качестве инженера-практика я уже заметно продвинулся. Мы с Диего, естественно, будем время от времени встречаться, и встречи будут происходить в дружественной обстановке. Однако каждый из нас идет своим путем, и, естественно, чем больше пройдет времени, тем сильнее отдалимся мы друг от друга.
В понедельник я, как обычно, вышел на работу, к которой успел привязаться. Не так давно я поравнялся с современными познаниями о моторах и генераторах, по крайней мере в том, что касается учебников и патентных заявок.
Положение, в общем и целом, сложилось такое: шумиха, вызванная принципиальными изменениями в конструкции вращающихся электрических машин, уже улеглась. Были до конца постигнуты соединения якоря и обмоток в двигателях постоянного тока. Более того, многие из этих соединений накопили столь долгую историю, что перешли во всеобщую собственность и перестали охраняться патентным правом.
Теперь все совершенствование этих машин сводилось к более разумному выбору магнитных материалов и улучшению конструкции магнитного поля, совершенствованию формы и размещения обмоток, изучению проблем коммуникации и общим расчетам механических характеристик. Куда большее оживление наблюдалось в конструировании двигателей переменного тока, но доступ в эту область нам надежно преграждали патенты, принадлежащие фирме «Вестингауз» и прочим великим электротехническим монополиям. Твой отец предостерег меня, посоветовав временно держаться подальше от этой сферы и дожидаться поры, когда станет легче получить права, охраняемые чужими патентами.
Я обратил внимание на альтернативную природу электродвигателей. В самом деле, ведь одно из двух: ты располагаешь либо [№ 3, c. 36] двигателем, работающим в постоянном режиме, либо двигателем, у которого высокий пусковой момент, – последний хорошо переносит высокие пики нагрузки; двигатель у тебя хорошо работает либо под постоянным напряжением, либо под постоянным током. Мне пришло на ум, что, если я найду способ превращать двигатель одного типа в двигатель другого типа, то многого добьюсь в применении двигателей для вспомогательного судового оборудования.
Меня осенило: ведь, пожалуй, легче всего будет приспособить двигатель определенной конструкции к какому-то конкретному режиму работы, изыскав некий простой способ изменять магнитное поле. Я стал рыться в технической литературе и патентных заявках, ища любых наметок в этом направлении. Даже в те далекие времена подобная литература была необъятна, и искать в ней определенную рубрику было все равно, что искать иголку в стоге сена, да еще не зная, там ли она. Однако я считал, что надо, как говорится, за те же деньги охватить по возможности большее количество литературы, а обращая попутно внимание на вполне конкретные проблемы, я придам своим усилиям, так или иначе необходимым для общей подготовки, цель и смысл, которых они в противном случае были бы лишены.
Немало недель прошло, прежде чем я нашел первое ощутимое указание. Я прочитал патентную заявку, поданную неким Чарлзом Дентоном и переуступленную корпорации «Норт Сиборд». В заявке описывалось довольно специфическое приспособление для привода станков, но там мелькнула ссылка на другой патент, выданный года три назад. Патент этот посвящался, как я понял, скользящим магнитным прокладкам между полюсом и ярмом.
По названию патент заинтриговал меня просто донельзя. Пожалуй, свойства скользящей магнитной прокладки – именно то, чего я ищу. Я попытался поднять старый патент в наших подшивках. Его там не оказалось, но в конце концов я обнаружил его в публичной библиотеке. Прочтя, я решил, что он, действительно, имеет прямое отношение к проблеме.
Очевидно, для патентуемого изобретения было существенно, чтобы неподвижные полюса выполнялись не цилиндрическими, а коническими, вращающиеся же полюса якоря – обычными, цилиндрическими. Между этими двумя комплектами полюсов вводилась серия новых добавочных элементов, цилиндрических внутри и конических снаружи. Смещение этих элементов относительно оси позволяло осуществлять бесступенчатое регулирование воздушного зазора в двигателе, притом в широком диапазоне. Форма прорезей для обмоток и магнитный материал для полюсов подбирались специально, притом так, что регулирование работы двигателя по всему диапазону осуществлялось простым поворотом рычага управления. Идея мне понравилась, я решил, что стоит доложить о ней твоему отцу. Он ею заинтересовался, хоть и не без скептицизма.
– Хитроумно, – сказал он, – Впрочем, десятки изобретений на бумаге хороши, на практике же страдают изъянами, от которых никакими силами не избавишься. А что вы намерены с этим сделать?
– Я бы просил предоставить мне на несколько недель толкового механика, один из маломощных двигателей, которые валяются на складе, и право распоряжаться тем и другим по своему усмотрению, а еще – выделить мне средства, не больше двух-трех сотен долларов, чтобы хоть в первом приближении выяснить, пригодится ли нам эта штуковина. Через месяц-другой представлю отчет.
– Ладно, попробуйте, – сказал твой отец. – Даже если ориентироваться на худший исход, мы рискуем немногим: если и не узнаем ничего нового об этой штуковине, то наверняка многое узнаем о вас. Что касается механика, то все штатные до отказа загружены, но вот ходит к нам один малый, когда у нас случается лишняя работенка. Человек опытный, но работать от гудка до гудка ему уже не под силу. О станках он знает решительно все, и для такой специфической работы, какую вы имеете в виду, это самая подходящая кандидатура. Через день-другой я его к вам подошлю.
Спустя два дня передо мной предстал не кто иной, как мой давний знакомец и наставник Ларс Густавсон. Густавсон лишился работы одновременно со мной и по той же причине. В его годы и с его причудами он никуда больше не мог попасть.
Под конец он обратился в отдел кадров фирмы «Уильямс и Олбрайт». Теперь в штатном расписании Густавсон числился запасным наладчиком. Неполный рабочий день не утомлял его и в то же время поддерживал в нем интерес к жизни и давал скудные средства к существованию.
Мне казалось крайне неудобным отдавать приказы старику, от которого я перенял почти все секреты ремесла. Как равный с равным, обсудил я с ним задачу, показал ему рабочие чертежи опытной аппаратуры. Он раскритиковал все с точки зрения человека, которому придется воплощать все в металле, и как дважды два, доказал мне, что в нескольких деталях я чрезмерно усложнил требования к механике. Эти детали без всякого ущерба для конечных щелей можно заменить другими, более легкими в изготовлении.
По-моему, он был страшно польщен моим доверием. В конце концов, с брюзгливым видом, напущенным, как я прекрасно понимал, чтобы подчеркнуть свою независимость, старик согласился работать вместе со мной над экспериментальной установкой. На следующий день я получил от него исправленные чертежи, а у него осталась копия для работы. Шло время, он все лучше понимал, к чему мы стремимся, и кончилось тем, что он стал относиться к нашей задаче, как к собственному открытию. Сварливость как рукой сняло, ее вытеснил энтузиазм исполнителя. Я убедился, что, по мере того, как работа наша продвигалась, он относился к ней все с большим увлечением.
Далеко не все шло у нас, как по маслу. Не один макет отправили мы в металлолом, прежде чем оба остались довольны. За несколько недель мы отчетливо представили себе экспериментальную установку. Я проделал немыслимую работу на бумаге. Насколько я разбирался в математической стороне проблемы, наша установка должна была работать достаточно прилично, чтобы мы могли хоть приблизительно судить о ценности патента.
К счастью, должную поддержку оказали нам практическая сметка Ларса и мое техническое образование. Не скрою, далеко не сразу испытания прошли удачно. Поначалу на каждом шагу выскакивали какие-то зловредные сюрпризы. После того, как осуществлена вся точная пригонка, о какой только можно додуматься, становишься в тупик от любого пустяка, например, если какой-то рычажок цепляется за раму станка.
Надо отдать Ларсу справедливость: не случалось ничего такого, чего он не мог бы исправить несколькими взмахами напильника. Зато, когда мы отладили установку, все наши старания окупились сторицей. Опыт продолжался ровно час и убедил нас, что Дентон изобретал не напрасно. На доклад к Уильямсу я понесся на всех парусах.
– Прекрасно, – сказал он, – но только осторожнее теперь, потихоньку. Многое еще надо сделать, прежде чем мы твердо убедимся в том, много ли для нас проку от этого устройства. Ступайте к Каммингсу и попросите его проверить эту штуковину на патентную чистоту, а я выясню, что известно о Дентоне и корпорации «Норт Сиборд». Если мои подозрения верны, то эта фирма неплатежеспособна и не выполняет своих денежных обязательств. А пока – обдумайте изобретение Дентона и представьте мне свои соображения о том, как его можно использовать. Я хочу знать и то, на что оно вообще годится, и то, как оно впишется в наши конкретные планы применительно к судостроению.
Я понес патентную документацию Каммингсу. Он на нее подозрительно сощурился.
– По-моему, ваш друг мистер Дентон, кем бы он там ни был, так и не обзавелся приличным юристом-патентоведом. В патентной формуле у него такие зияющие дыры, что впору прокатиться по ней в карете. В наши дни изобретатели, как правило, выжидают со своими заявками, пока не проконсультируются у патентоведов тех фирм, которые намерены купить данный патент. Похоже, мистер Дентон не стал выжидать, а просто-напросто обратился к человеку, почти ничего не смыслящему в патентоведении. Дайте-ка мне еще разок взглянуть на последний патент.
Некоторое время он вчитывался во второй, позднейший патент, потом сказал:
– Да, так я и думал. Позднейшую заявку составлял человек несравненно более квалифицированный. Мне кажется, после того как Дентон закончил работу над первым изобретением, им завладела «Норт Сиборд» и взяла Дентона на работу с постоянным окладом жалованья. Вы ведь знаете эти контракты: 2000 долларов в год и один, прописью один, доллар за каждое новое изобретение. Наверное, фирма решила, что больше не даст провести себя за нос неумело составленной заявкой.
Теперь, когда стратегическая и патентная стороны дела вышли из моей компетенции, я вплотную взялся за работу над центральной идеей нового изобретения. Оно, бесспорно, давало мне в руки козырь, позволяя легко сконструировать двигатель, который можно будет применять в разных режимах работы и даже переводить с одного режима на другой, не обесточивая. Не исключено, что в изобретении кроются и другие возможности.
Я стал размышлять о заре паровых двигателей и регуляторе Уатта. Устройство, регулируемое угловой скоростью приводного вала двигателя, контролирует впуск пара. Нельзя ли превратить наше новое устройство в подобие такого регулятора? Тогда можно будет задать двигателю одни свойства при высокой скорости вращения, и совсем другие – при малой. Для этого понадобятся новые узлы, но они будут несложны и недороги, зато мы создадим двигатель с принципиально новыми характеристиками. Можно будет в какой-то степени приспосабливать эти характеристики к конкретным требованиям заказчика.
В мыслях я зашел еще дальше, и идея приспособляемых характеристик приняла новую форму. На выходе электродвигателя – несколько замеряемых мощностей, можно складывать их несколькими разными способами, чтобы приводить вал во вращение. Можно снимать напряжение и ток с якоря и обмотки возбуждения, сочетать их в любом порядке – и тогда мы получим новое устройство с весьма непредсказуемыми, пусть даже пока непонятными свойствами.
Я сосредоточился на этой мысли и понял, что легко вообразить любое число новых полезных комбинаций. Одна из них, сравнительно простая, существенно улучшала привод вентиляторов и прочих механизмов, работающих на постоянном режиме. Другая дала бы огромные преимущества тому, кто использовал бы ее на лебедках и кабестанах.
Не буду входить в остальные подробности. Чтобы ознакомиться с ними, стоит лишь поднять архивы фирмы за первое десятилетие нашего века.
Пока я всем этим занимался, Уильямс с Каммингсом тоже не дремали. Однажды он вызвал меня к себе в кабинет, где уже сидел приглашенный на совещание Каммингс.
– Мы тут разобрались в материалах по Дентону, – заговорил Уильямс. – Кое о чем и вы должны знать. Дентон – изобретатель-одиночка старой закалки, на его счету немало мелких усовершенствований, но вплоть до этой новинки он ни разу не хватал звезд с неба. Сын у него – юрист, недавно принят в коллегию адвокатов-патентоведов. Для него патенты – занятие побочное, но время от времени он выполняет отцовские поручения. О его патентной квалификации Каммингс невысокого мнения. По слухам, остальные дела он ведет не лучше. Захолустный адвокатишка и фермер, то и другое в одном лице, клиентура у него бывает от случая к случаю, да и то его хватает ровно настолько, чтобы благопристойно проиграть тяжбу.
По-видимому, на сей раз Дентон, действительно, набрел на удачную идею и давай торговать ею вразнос. Обратился к старинному моему приятелю Джиму Брауну из «Норт Сиборд». Джима Брауна я знаю много лет. В покер с ним игрывал. Нет лучше способа изучить человека. А если полиция заинтересуется отпечатками его пальцев – показываешь какую-нибудь монетку, побывавшую в его руках.
В свои наиболее добропорядочные дни Джим Браун с лотка торговал сладостями в цирке. Соответственно в нем развито представление о том, как надо обращаться с простофилями. Дентона он связал по рукам и ногам. Мне даже глазком не удалось глянуть на их контракт, но я знаком с одним малым, который работает у Брауна, и он-то мне рассказал о том, что поговаривают в «Норт Сиборд».
Спору нет, за царский оклад – 1000 долларов в год – Браун с Дентона заживо содрал шкуру: Дентон обязался передать ему то изобретение, на которое вы нацелились, а также любое другое изобретение, которое он сделает в дальнейшем. Учтите, Дентону сейчас пятьдесят семь лет, а шестидесятилетних фирма «Норт Сиборд» по условиям найма выставляет на улицу без предоставления пенсии, так что Браун немногое теряет.
Я хочу, чтобы вы вдвоем составили патентную заявку, которая предусматривала бы все мыслимые способы использования этой новинки. Каммингс изложит вам свои пожелания как правовед, а ваше дело – конструкторская сторона. По-моему, в худшем случае мы завяжем всю область узлом, так что, если и не получим основного изобретения, то, по крайней мере, старина Браун шагу с ним ступить не сможет, не уплатив нам положенной дани. Однако до этого навряд ли дойдет. Мы не станем в [№ 3, c. 37] открытую отнимать у него какие-то права, а будем их потихоньку нарушать. Мне кажется, где-то в организационной структуре у него есть слабое место. Если дойдет до драки, мы его одолеем одной левой. А там уже все будет нашим. Старое изобретение, да и новые тоже. А теперь – приступайте, вы и Каммингс.
Мы с Каммингсом вышли вместе и на ходу обговорили предстоящую нам работу. Перед тем как набросать проект патентной заявки, Каммингс считал нужным получить от меня конкретные сведения о том, что же нового содержится в изобретении Дентона; что имеется в более ранней технической литературе, статьях, монографиях и патентах, посвященных смежным идеям; нет ли, по-моему, среди этих материалов более полных, чем патент Дентона; и, наконец, какие ограничения его использования влечет за собой моя идея, то есть, какие стороны этого изобретения, подмеченные мною, не охвачены пунктами патентной формулы. Я тотчас же принялся за дело. Уж в коммерции я кое-что смыслил. А Браун был коммерсантом, достойным моего рвения.
Но какова же здесь роль Дентона? Ведь он-то, безусловно, не коммерсант. Это явствует хотя бы из того, как обошелся с ним Браун.
Пожалуй, можно выкинуть Дентона из головы, так как он уже отказался от прав на свое изобретение в пользу Брауна. Хуже, чем есть, ему все равно не станет. Мы не причиним ему ущерба… хотя стоп! Действительно ли не причиним?
Нелегко это определить. Помимо прав на изобретение как источник богатства, Дентону принадлежат также более замысловатые права – на изобретение как плод его идеи. Если мы всего-навсего ущемим те права на плоды идеи, которыми обладает Браун, куда ни шло, но едва ли этим наши намерения ограничиваются.
Замыслы начальства неисповедимы. Если письмо Олбрайта, полученное мною при поступлении в фирму, надо понимать буквально, то впору оставить все сомнения. Но следует ли понимать это письмо буквально? И, вообще, может ли человек безоговорочно верить в честность другого человека, если его собственная честность под вопросом?
Многое ли мне известно о методах, с помощью которых Уильямс собирается завладеть изобретениями Дентона? Намеривается ли он отнять их у Брауна посредством какой-нибудь хитроумной уловки, коммерческой или правовой? Предпочитает ли оспаривать ценность идей, лежащих в основе изобретения, утверждая, будто они исходят не от Дентона, а из другого источника? В растерянности я решился откровенно поговорить с Уильямсом.
– Что вас смущает? – спросил он. Мне было затруднительно начать разговор.
– Вот, запутался в правде и кривде своей профессии, – сказал я несмело. – Становясь инженером, я полагал, что буду изобретать сам или же внедрять чужие изобретения. Но патентное дело оборачивается неожиданной стороной. Похоже, что я должен содействовать краже патентов у изобретателей, содействовать любой ценой и любыми способами, вплоть до бандитского налета и включая его.
– Я ждал, что вы рано или поздно затронете эту тему, – сказал Уильямс. – Если начистоту, то, не заговори вы об этом, я был бы разочарован. Да, вынужден признать: наши методы граничат с бандитизмом, а иногда, пожалуй, переходят в него. А вы только теперь это поняли?
– Видимо, да. А как же брошюрка мистера Олбрайта с высокими изъявлениями этичности и принципиальности?
– Ах, вон вы о чем! Олбрайт написал то, во что он, по своим понятиям, верит и хочет верить. Может, он и в самом деле во все это верит, но, если нам подворачивается случай зашибить большую деньгу, я никогда не встречаю с его стороны особого сопротивления. Олбрайт есть Олбрайт, а я – это я.
Мне в жизни немало тумаков досталось, я ведь начинал деревенским пареньком: приехал в большой город, и каждый раз, как пытался вскарабкаться вверх, кто-нибудь опалял мне крылышки, пока я сам не научился опалять крылышки противникам.
Да, конечно, Олбрайты за свое состояние тоже дрались – только пух летел, но сколотили-то его лет сто назад, с тех пор сменились три поколения. Теперь Олбрайт может позволить себе разборчивость в средствах. Он волен блюсти этическую сторону дела и забыть о той стороне, к которой не стоит чересчур пристально приглядываться. Его вклад в фирму – не только напитал, но и престиж старинной фамилии.
У меня вклад иного рода. Я – ломовая лошадь фирмы. Я должен налегать на постромки. Должен оплачивать счета, должен следить за тем, чтобы мистер Олбрайт и все акционеры вовремя получали свои деньги. Когда дивиденды запаздывают, Олбрайт подымает истошный визг. Громче не визжал бы даже простой малый вроде меня.
Присматривать надо не только за дивидендами. Гораздо больше заботит меня заработная плата. Если я не обеспечу притока прибылей, ваши добрые друзья-рабочие (знаю, знаю, вы очень тепло относитесь к рабочим, да и они о вас хорошо отзываются) в выплатной день вернутся домой без своих конвертиков и, возможно, нигде больше не найдут себе подходящей работы. Невысокого же они тогда будут обо мне мнения, да и вы, по-моему, тоже.
Я должен расшевелить фирму. Здесь я противостою нескольким десяткам других служащих. И вы должны расшевеливать игру. Возможно, в этой игре и есть какие-то правила, но я еще с ними не сталкивался. Лучшее, что я могу сделать, – это играть ва-банк, наплевав на всякие правила. С двумя-тремя своими конкурентами я встречался в клубе за карточным столом: ну и мастаки же они играть в покер! Утонченно играют, корректно, никакого сравнения с тем, как обделывают свои делишки.
Выбор у меня ограниченный: либо я сам пиратствую, либо меня пустят на дно другие пираты. Знаю, вам это не понравится; да мне и самому-то не нравится. Если у молодого человека есть принципы и он их отстаивает, то я его уважаю. Коль скоро вы готовы выйти из инженерной игры, оттого что вам не нравятся ее повороты, – найдите игру, в которую можно играть с чистой совестью. Но только до тех пор, пока вы спокойно кладете в карман солидное жалованье, которое получаете за участие в этой игре, не распускайте передо мной нюни. Между двух стульев вы не усидите: примите-ка определенное решение.
Я много об этом размышлял. Пытался понять, что же неладно в конструкторском деле и как бы это исправить. Во-первых, законы о патентах будут провоцировать жульничество до тех пор, пока не придут в соответствие с фактами изобретательства, каково оно ныне, а не каким изображается в чьих-то романтических бреднях, идущих со времен Гражданской войны. Развивая свою законодательную деятельность, конгрессмены вечно представляют себе доброго подмастерья в кузнице, выдумавшего новый хитроумный, чисто американский крючок для снимания сапог. Им невдомек, что существует научное конструирование, что в наши дни изобретатель должен быть специалистом широкого профиля, а на одном-единственном остроумном трюке, который вдруг откуда ни возьмись пришел в голову и до которого всякий мог бы додуматься, дойди у него только руки, – далеко не уедешь.
Во-вторых, это ведь слова, – будто патенты предназначены поощрять ремесло, поощряя изобретателя. Ремесло-то они, действительно, поощряют, но отнюдь не изобретателя. Нет, выигрывает предприниматель: он получает возможность купить нечто осязаемое, нечто такое, во что можно вцепиться зубами, да к тому же патенты устраняют для него всякую конкуренцию, так что у него есть надежда владеть изобретением достаточно долго и урвать на нем порядочный куш.
Теперь вы, наверное, будете считать меня бессердечным бревном, да так оно, пожалуй, и есть. Но все же для тех, кто у меня работает, я не так уж плох, во всяком случае, по сравнению с другими предпринимателями, к которым им пришлось бы податься, уйди они от меня. Даже совершая деловую операцию: пусть никаких правил тут нет, а если бы и были, вряд ли я бы их придерживался, я стараюсь стричь овец так, чтобы на них осталась шкура и новая шерсть отросла бы до наступления холодов.
В городке, под которым я родился, приходский священник был прежде миссионером в Китае, так он мне цитировал иногда китайские пословицы. Они не так уж глупы. Одна из них гласит: «Не разбивай чашку для риса у ближнего своего». Понимаете, можно сбить человека с ног, но нельзя забить до такой степени, чтоб он больше не поднялся.
Вот я и стараюсь поступать по этой пословице. Кстати, мудрое правило: ведь если человека загнали в угол и бьют смертным боем, то ему остается только драться насмерть. Итак, запомните: захотите уйти от нас – я не возражаю. Но только не думаю, что вы уйдете. А пока поразмыслите над моими словами.
Я попрощался, подавленный, и в то же время подбодренный; подавленный, потому что факты жизни, на которую я себя обрек, были не из приятных, а подбодренный тем, что мой хозяин (и, как я начинал считать уже а те дни, друг) умеет честно смотреть этим фактам в лицо. Если бы по какому-то недоразумению меня бы понесло с моими сомнениями к Олбрайту (впрочем, это исключалось) или же я бы застал его вместо Уильямса в том кабинете, то тут бы и настал конец моей конструкторской деятельности.
Может быть, Уильямс кого-то надувал и водил за нос, но, во всяком случае, самому себе он никогда не морочил голову. Вопреки затасканной реплике Полония, я отказываюсь верить, что напыщенный старый болван всегда был правдив наедине с собой, и мне не раз приходилось встречать людей, которые не лгали себе, зато другим врали, как охотники. Я утихомирился и продолжал работать, хотя в душе у меня по-прежнему был разлад.
Почему я – человек, мнивший себя идеалистом, занялся паскудным делом патентного крючкотворства? Но, во-первых, чем же еще мог я заняться в рамках своей профессии? В те дни патентное крючкотворство, по словам Уильямса, повсеместно было (да и теперь осталось) оборотной стороной конструирования. Новая работа в другой фирме поставила бы меня перед той же проблемой, но руководил бы мною кто-нибудь, не отличающийся такими сдерживающими центрами и гуманностью, как Уильямс. В какие бы тяжкие я ни пустился, при Уильямсе я не зайду слишком далеко, ущемляя других. Разумеется, можно было укрыться в тепличной обстановке университета или технического колледжа. Но, тогда, свалив на других те интриги, в которых сам не пожелал участвовать, я счел бы это трусливым уклонением от ответственности. К тому же меня приводил в восторг труд среди коллектива рабочих. Отказ от природной тяги к рабочим послужил бы для меня в какой-то степени духовным самоубийством.
Каммингс заявил, что я способный ученик и недурно ориентируюсь в лабиринтах патентоведения. Вдвоем мы накропали заявку – просто пальчики оближешь. Воспользовавшись каждым промахом Дентона и его юрисконсульта, мы построили заявку на возможности саморегулирования двигателей и так увязали между собой пункты патентной формулы, что, пока не истечет срок действия патента, никому не удастся отыскать в них мало-мальски серьезных упущений.
Каммингс проявил стопроцентную корректность, признав предмет изобретения таким же, как у Дентона, однако ухитрился запутать вопрос уймой ссылок на более ранние работы, имеющие хотя бы отдаленное терминологическое отношение к Дентону. Напротив, введенные мною новшества выпячивались до того четко и ясно, что у читателя сразу же складывалось впечатление, будто работа Дентона – всего лишь безуспешная попытка добиться того, в чем преуспели мы.
Пока мы закладывали техническую и правовую базу для компании Уильямса против корпорации «Норт Сиборд», он лично налег на финансовую сторону. По-видимому, значительная часть акций «Норт Сиборд» была разбросана по всей стране, так что проследить их и собрать не было никакой возможности, но сорок процентов принадлежали Брауну и еще двадцать – какому-то его свойственнику, плясавшему под его дудку. Поэтому оказать на него давление через кого-либо из «своих» было не просто.
И все же, каким образом, я до сих пор ума не приложу, Уильямс умудрился наложить лапу на те двадцать процентов да еще пробить значительные бреши в остальных сорока, принадлежавших случайным лицам. Навряд ли в его руках очутился контрольный пакет, но акций он собрал вполне достаточно, чтобы Браун закричал «караул!».
К этому времени вступил в действие наш патент, и мы приготовились к бою. Развернули производство маломощных бытовых моторов, причем в ограниченном масштабе: это мы сочли наилучшим способом привлечь внимание широкой общественности. Разумеется, при этом мы нарушали патентные права Дентона, но рассудили так: пусть «Норт Сиборд» вчиняет нам иск, коли есть охота. А когда корпорация обратилась в суд (далеко не сразу, тем временем у Брауна многое на душе накипело), наши адвокаты применили тактику оттяжек и проволочек. Так продолжалось год-другой, судебные издержки росли, как на дрожжах, а уж Уильямс позаботился о том, чтобы акционеры «Норт Сиборд» знали, во что обходится им тяжба.
В конце концов, недовольство приняло всеобщий характер. На очередном собрании акционеров Уильямсу удалось [№ 3, c. 38] присоединить достаточное число голосов к тем акциям, которые держал он сам, и добиться контроля над корпорацией.
А там уж стало неважно, какие изобретения принадлежат нам благодаря нашим патентам, а какие – по патентам «Норт Сиборд». Свои заявки мы и составляли с этим дальним прицелом, поэтому наши два подхода к монопольному владению отраслью дополняли друг друга как нельзя лучше. Практически корпорация «Норт Сиборд» превратилась в филиал фирмы «Уильямс и Олбрайт». Владельцем постоянно действующего преимущественного права «Норт Сиборд» на изобретение Дентона стал Уильямс.
Право на идеи Дентона было приобретено по-пиратски, но Уильямс воспользовался им так, что у Дентона не оставалось оснований для жалоб. Возраст ухода в отставку ему повысили до семидесяти лет, а оклад многократно увеличили – Дентон теперь мог жить припеваючи.
Немало времени потратили мы с Каммингсом на просмотр остальных изобретений, которые фирма «Норт Сиборд» приобретала по контракту с Дентоном. Большинство оказалось писаниной, совершенно непригодной к внедрению в эксплуатацию; правда, такая писанина могла, наверное, пригодиться, чтобы отпугивать конкурентов. Два или три оказались весьма удачными усовершенствованиями. За них Дентону выдали премию, и с тех пор он мог жить безбедно, даже если бы ушел в отставку.
После того, как дентоновские патенты неоспоримо перешли в нашу собственность и могли быть использованы для любых целей, мы стали разрабатывать целую серию вспомогательных двигателей для нужд судовой техники. Тем временем Уотмен добился больших успехов, совершенствуя генераторы и тяговые двигатели. Прежде чем приступать и серийному производству, мы хотели объявить, не кривя душой, что новое оборудование полностью прошло испытания. Несколько предварительных предложений внесли мы с Уотменом, но самую лучшую идею подал Уильямс.
– Новую серию, – сказал он, – надо опробовать в предельно тяжелых и напряженных условиях эксплуатации. Я пришел к выводу, что нигде электрооборудование не изнашивается быстрее, чем на драге. Драга работает беспрерывно, и вы не представляете, каким ударным нагрузкам подвергается она из-за гальки, подводных скал и т. п. Только что я получил письмо от Боулса из судостроительной компании «Фанди». Он хочет поставить свою драгу «Скандинав» на ремонт в наш салемский сухой док. Я уже предлагал ему электрифицировать драгу. Он не мычит не телится, но, по-моему, его можно уговорить. Давайте предложим ему сверхльготные условия, но пусть он согласится испытать новое оборудование, которое мы специально для него сконструируем, и в течение одного или двух судоходных сезонов представляет нам подробный отчет о работе этого оборудования. Если мы чего-то не дотянем по своей части (а ведь наверняка так и будет), то, насколько мне известно, нет лучшего способа выявить наши недоделки. Если же случайно наше оборудование зарекомендует себя так хорошо, как мы и надеемся, то в общем сбыте продукции это будет самым крупным нашим козырем.
Мы обсудили это предложение, и я его одобрил. Понравилось оно и компании «Фанди», которая с радостью выслала чертежи своей драги вместе с указаниями, какую работу надо там проделать. У меня начались лихорадочные три месяца, проведенные над расчетами и за кульманом, а потом – еще полгода на изготовление.
Много лет подряд компания «Фанди» тесно сотрудничала с нами и даже могла считаться нашим канадским представителем. Конечно, в судостроении она с нами конкурировала, но конкуренция носила весьма относительный и условный характер, так что мы без колебаний начали совместную работу.
Верфь этой компании находилась в устье реки Минас, где можно было вовсю использовать титанические приливы и отливы. «Фанди» разработала особую технику постройки судов в сухом доке, позволяющую избегать нагрузок, неизбежных при обычном спуске на воду. Мне всегда казалось глупым начинать жизнь судна с нагрузок, которые сравнимы разве что с посадкой на мель и запросто могут сократить срок его эксплуатации.
Судостроительная компания «Фанди» решила начать выпуск новых судов большого водоизмещения. Помимо сооружения нового сухого дока, это означало еще и необходимость улучшить глубоководные подступы к нему. Требовалось провести дноуглубительные работы, в частности, вычерпать скальный грунт.
В результате наша фирма откомандировала меня руководить монтажом нового электрооборудования драги и сообщать о том, как оно функционирует. Следовательно, мне предстояло провести несколько месяцев на драге, где жизнь почти такая же затворническая, как у смотрителя на маяке.
Я настроился на длительные неудобства и даже лишения. Но действительность обернулась вовсе не так страшно. В команде все сплошь были мастерами своего дела, за много лет они друг с другом хорошо сработались. По сравнению с обычной судовой, эта команда была на порядок выше: люди знали толк в своей специальности, да и поговорить с ними было одно удовольствие.
В фирме «Фанди» отлично понимали, что нельзя держать людей в отшельнических условиях, если не сделать их жизнь хоть мало-мальски сносной. Поэтому жилые отсеки драги были чисты и уютны, несмотря на въедливую скальную пыль и тяжелый труд. Еда была хорошая, скорее плотная, чем роскошная, но аккуратно приготовленная и вполне съедобная. В свое время кок служил на корабле британского военного флота. Он умел наилучшим образом распорядиться простыми продуктами и всячески разнообразил нам стол.
Меню далеко не ограничивалось свининой и бобами, как можно было ожидать при нашей оторванности от остального мира. Раза два-три в неделю мы добирались моторной лодкой до ближайшей гавани, где запасались продуктами и свежими овощами. Обычно к вечеру все мы здорово уставали, но все равно мне часто удавалось перекинуться в картишки с капитаном, главным механиком и коком.
Как нельзя лучше сошелся я с членами команды – большей частью шотландцами из Новой Скотии. Благодаря постоянному характеру своей работы они на голову превосходили обыкновенных моряков. Много читали и, хоть были по природе молчаливы, если уж что-то говорили, то их стоило послушать.
Поначалу в оборудовании пришлось устранять немало неполадок. Я нес вахту наравне с остальными, а потому имел возможность понаблюдать его в действии и прислушаться к другим мнениям.
Постепенно, по одной, мы доработали все недоделки. С удовлетворением выслушал я ворчливое замечание главного механика Хея.
– Не так уж скверно.
В конце концов, я вернулся в Бостон в добром здравии и превосходном расположении духа, освеженный тяжелым физическим трудом, нарастив новые десять фунтов мышц на костях. В целом оборудование оправдало наши надежды. Я доложил Уильямсу о том, с какими трудностями сталкивался и как предлагаю их преодолеть.
– Теперь мы можем приступить к производству, – заключил я.
– Не будем спешить, – возразил Уильямс. – Мне кажется, новый комплекс надо испытать в условиях морского плавания. Вы ведь знаете, что фирма «Ланди» – одно из предприятий старика Рэнделла. Года два назад Рэнделл приобрел контрольный пакет акций пароходной компании «Грин фаннел», суда которой курсируют между Бостоном и Ливерпулем. Иногда перевозят скот, иногда захватывают и пассажиров, но специализируются преимущественно на генеральных грузах. Капитан Драммонд с парохода «Айлендер» – мой давний приятель. Непременно навещает меня, когда бросает якорь в Бостоне. В последнем рейсе «Айлендер» изрядно потрепало штормом. Примерно на месяц его ставят на ремонт в сухой док. Наслышавшись от Рэнделла похвал в адрес нашего электрооборудования, я не сомневаюсь, что легко уговорю его установить на «Айлендере» новые вспомогательные двигатели. Судно хорошее, но старое, и почти все оборудование на нем архаичное. Так или иначе надо его менять. Не хотите ли поработать в паре с нашим судостроителем Паркером, проследить за монтажом нового оборудования? Тогда, где-нибудь в июне, если к тому времени все будет готово, я отправлю вас в плавание на «Айлендере» – посмотрите, что у вас получилось.
Кстати, вы работаете у нас три года и ни разу еще не брали отпуска. Может быть разыщите за границей кого-нибудь из корреспондентов фирмы и дадите нам знать о важных новшествах, если таковые окажутся? Возъмите-ка заодно отпуск на несколько недель и возвращайтесь к середине августа. Тогда и потолкуем о вашем будущем. Относительно вас у меня грандиозные планы.
Намек на грядущие поощрения окрылил меня необычайно. Я тотчас же связался с Паркером. Мы ознакомились с чертежами «Айлендера». Предстояло изрядно потрудиться: установить генераторы, мощности которых хватило бы на питание всего электрооборудования, а также спроектировать само оборудование.
Не стану входить в излишние подробности, но в конце концов, мы составили предварительный план работ, который намеревались развить и дополнить, если получим «добро» от Уильямса и Рэнделла. Мы его получили, хоть и не так скоро, как хотелось бы. Но все же нам хватило времени завершить работу в намеченные сроки.
Моя предполагаемая поездка в Европу стояла уже первым пунктом в повестке дня. Уильямс советовался со мной о том, какие фирмы стоит посетить в Европе и каким вопросам надо уделить там особое внимание. Мне предстояло объездить все судостроительные верфи на Британских островах и континенте Европы. Больше всего интересовался Уильямс мнением судостроителей о преимуществах и недостатках турбовинтового привода, а также тем, что они предпринимают в отношении мощных судовых двигателей внутреннего сгорания. Кроме того, я должен был, руководствуясь собственным суждением, сообщать о прогрессе в области электрооборудования.
К работам одного человека Уильямс проявлял повышенное любопытство.
– Заокеанские друзья сообщают мне о некоем типе по фамилии Вудбери: на съездах и конференциях конструкторов он постоянно надоедает всем хуже горькой редьки. Это старый свихнувшийся чудак с языком, похожим на отравленную бритву. Я пытался читать его статьи, но они выше моего разумения. Скорее всего, он просто чайник; однако чайники нет-нет да выдадут блестящую идею. Тогда все те, кто над ними смеялся, чувствуют себя в дураках. Я хоть и инженер, но колледжей не кончал и не могу полагаться на свое мнение. Похоже, Вудбери очень уверен в себе; кто знает, может быть, в его словах есть доля истины. Не соберете ли о нем сведения?
Самому мне не раз попадалась фамилия Вудбери – она то и дело мелькала в технической периодике. Там Вудбери выражал самое нелестное мнение о своих коллегах-конструкторах, но, по крайней мере, выражал его ясно и недвусмысленно. Частенько подмеченные им неувязки совпадали с моими наблюдениями.
Чтение сильно затруднялось его терминологией, а также тем, что он все время вводил какие-то новые понятия. Еще до беседы с Уильямсом я решил детально ознакомиться со всеми работами Вудбери и раз навсегда выяснить, вздор ли это или же изложение важных новых идей. Но с тех пор у меня все как-то руки не доходили.
1908
В середине июня я сел на борт «Айлендера» в радужном предвкушении новых служебных обязанностей, исполненный любопытства: какой-то покажется мне Европа после жизни в Америке? На борту я очутился задолго до появления первого пассажира, поскольку в мои обязанности входило присутствовать при загрузке трюмов и наблюдать за работой механизмов.
С капитаном Драммондом я познакомился еще раньше, а кабинете Уильямса. Он мне очень понравился с первого же раза: грубовато-добродушный, бывалый мореход, умеющий держать склочных пассажиров на должной дистанции и в то же время снискать их уважение. Бедняга, в дни первой мировой войны ему суждено было пойти ко дну вместе с судном.
Капитан лично отвел меня в предназначенную мне каюту. Каюта была пассажирская, одна из самых просторных на пароходе. Вообще-то рейс объявили сравнительно поздно, так как до последнего момента оставалось неясным, когда же судно выйдет из сухого дока. Капитан Драммонд сказал, что на борту едва наберется два-три десятка пассажиров, тогда как в это время года их обычно на судне не меньше сотни.
Стремясь держаться поближе к судовым механикам и слышать все, даже случайно оброненные замечания о нашем оборудовании, я решил столковаться с ними, а не с пассажирами. Во время посадки пассажиров я как раз обедал внизу. Потом поднялся на палубу – посмотреть, как выбирают якорь и готовят судно к отплытию. Больше делать было все равно нечего, вот я и направился к своему шезлонгу. Капитан позаботился о том, чтобы его поставили под навесом на солнечной стороне.
Бостонский маяк еще не скрылся за горизонтом, а я уже словно перенесся в Англию. Стюард, принесший мне чашку чая, был англичанином, мои товарищи-механики – шотландцами.
На другой день я спустился в машинное отделение. Там капитан, его помощники, штурман и механики весьма квалифицированно раскритиковали нашу установку, [№ 3, c. 39] забросав меня дельными, умело поставленными вопросами. Оказывается, наши новые механизмы покажут наилучшие результаты, если использовать их несколько по-иному, не так, как привыкли на этом судне. В общем, значительную часть плавания пришлось затратить на составление инструкций по эксплуатации оборудования.
Таким образом, во время рейса я вовсе не сидел сложа руки. А плавание продолжалось долго, десять дней, поскольку «Айлендер» был, по сути, грузовым пароходом, и путешествовали на его борту те, кто роскоши и быстроте передвижения предпочитают мирный комфорт и покой.
Но вот мы бросили якорь в Ливерпуле. До сих пор мои отношения с Англией оставались чисто литературными. Я прекрасно знал, что «промышленная революция» омрачила страну и лишила ее красоты, но все же не был подготовлен к увиденному: по мутной реке плывут старые деревянные ящики и всевозможный мусор – отходы жизнедеятельности кипучего порта; многие мили доков и причалов; сквозь туман маячат торговые склады и одно-два громадных административных здания. Когда я приблизился к туману, он, на расстоянии не лишенный живописности, распался на едкие клубы мягкой угольной копоти, покрывающей решительно асе. Повсюду тянулись улицы, улицы, улицы – жалкие кирпичные домишки, до омерзения похожие один на другой.
Меня снабдили рекомендательными письмами кое к кому из ливерпульских судостроителей и корабельных инженеров-механиков. Следующие несколько дней я провел в Мерсее. Увидел там предприятия, широта и размах которых вопиюще не соответствовали старомодным и тесным помещениям их контор.
Обойдя британские верфи и посетив два-три электротехнических завода, я решил воспользоваться рекомендациями Уильямса. Приехав в Портсмут на судостроительный завод и передал одно такое письмо сэру Сесилу Кийс-Дартфорду, отставному коммодору британского королевского флота, ныне видному военному кораблестроителю. Значительную часть своего времени он уделял на консультации различных судостроительных фирм, в том числе фирмы «Уильямс и Олбрайт». Коммодор ответил любезным приглашением заглянуть к нему в служебный кабинет.
Это был грубовато-добродушный, живой человек с обветренным лицом и проницательными серыми глазами, поблескивающими над седой бородкой установленного образца. Он носил штатское, но его двубортный темно-синий костюм строго следовал покрою морской формы. В походке улавливался чуть приметный намек на моряцкую развалочку. Голос звучный, как и подобает офицеру, привыкшему командовать сквозь рев непогоды. Коммодор мило отозвался об Уильямсе и о различных судостроительных начинаниях, в которых они совместно участвовали. Вспомогательным электрооборудованием он заинтересовался не на шутку.
– Между прочим, – сказал он, – век бы рад обсуждать с вами этот вопрос, но мне пора мчаться в Лондон. Сегодня вечером там состоится встреча общества «Руль и поршень». Не хотите ли составить мне компанию? Примерно раз в месяц собирается группа судостроителей, судовых офицеров и корабельных инженеров-механиков, чтобы обменяться профессиональными новостями. Сегодня юный Ирвинг Блок, четвертый инженер-механик с «Пенанг Лойер» Малайской торговой компании, расскажет об усовершенствованиях в электрическом рулевом механизме. Это ведь по вашей части. О Блоке мне известно немногое, но, ему, по-видимому, покровительствует старый ворчун Вудбери. Несмотря на свою еврейскую фамилию, Блок – отличный судовой механик из Глазго. Мальчик способный, но, боюсь, не слишком-то здравомыслящий.
Встречи общества «Руль и поршень» происходили обычно в лекционном зале колледжа Доксайд в Ист-Энде. Технический колледж Доксайд представлял собой одни из многообразных компонентов рыхлого и аморфного целого, известного под названием «Лондонский университет»; главная цель колледжа заключалась в том, чтобы сделать техническое образование доступным для механиков, плавающих на океанских судах, и вообще для юношей, так или иначе связанных с судостроением. Общество «Руль и поршень» – это группа инженеров, судостроителей и судовых механиков. Оно возникло в тридцатых или сороковых годах прошлого века, когда лопастное колесо и пар под рабочим давлением десять фунтов на квадратный дюйм только-только начинали приходить на подмогу всемогущему, общепризнанному парусу, который оставался повелителем морей и, судя по всему, во веки веков не собирался сдавать позиции.
Учебные аудитории всего мира похожи одна на другую: скамьи и пюпитры отполированы поколениями непочтительных студентов, штукатурка на стенах и грифель на досках выщерблены, всюду пахнет меловой пылью, на лекторской трибуне – наклонная кафедра для заметок, немытые окна смотрят на море крыш и дымоходов, общее впечатление свидетельствует о практической пользе и здравом смысле учебного заведения.
Мы приехали несколько рановато: из членов общества собрались лишь немногие. Пока коммодор обменивался приветствиями с председательствующим, я успел осмотреть расставленные по полкам модели судовых механических устройств. В частности, была там модель старинного балансирного двигателя для парохода с лопастным колесом и деревянный макет (ручной работы) какого-то нового винта. На стенах висели всевозможные диаграммы, среди них, помнится, схема зависимости скорости парохода от тяги винта.
Коммодор представил меня председательствующему – одному из преподавателей колледжа Доксайд. Поодиночке и по двое начали появляться члены общества «Руль и поршень», и я внимательно вглядывался во вновь прибывших. Среди них были судовые офицеры и механики, одетые в форму и, судя по всему, недавно высадившиеся на берег специально ради того, чтобы не пропустить встречи. Были несколько офицеров военно-морского флота. Кое-кто из одетых в штатское показались мне механиками высшей квалификации: их узловатые руки резко контрастировали с праздничными костюмами.
– А вот и они – Вудбери и Блок, – сказал коммодор.
Один из вошедших был пожилой, низкорослый, в поношенном костюме, словно с чужого плеча. Быстрота его движений свидетельствовала о нервной раздражительности. Взгляд беспокойно перебегал с одного лица на другое. Очевидно, он был глуховат, так как все время приставлял к уху сложенную чашечкой ладонь. Щетинистая седая бородка, хоть и короткая, была немножко всклокочена. Спутник его, худощавый смуглый юноша с тонким профилем, носил форму четвертого судового механика. Эти двое были увлечены беседой, причем Вудбери, казалось, натаскивал юношу перед докладом.
– Старого буку Вудбери все знают, – продолжал коммодор, – Прямо заноза какая-то в теле нашего общества. Между прочим, мы прозвали его Букой, но по-настоящему его зовут Седрик. Когда-то он служил чертежником в фирме «Мэйтленд и Доджерс»: это одна из фирм, при которых я состою консультантом. Потом он стал туг на ухо и вообще повел себя до того странно, что фирме пришлось с ним расстаться. На что он теперь живет – неизвестно. Говорят, поселился у родственников в Кентиш-тауне, в дряхлом домишке. Непременный посетитель каждого собрания, во всех инженерных обществах, вечно представляет доклады, которых, кроме него самого, никто не в состоянии понять. Ему позволяет печататься кретин-редактор «Судомеханичсского журнала». Его сообщения кишат математическими выкладками его же собственной стряпни – такая математика никого еще к добру не приводила.
Тем не менее, в глубине души я симпатизирую старому Буке. Он как никто другой приносит оживление в наши встречи. На слух не воспринимает и половины докладов, но во всем разбирается, ориентируясь на то, что пишется на доске. Уж за этим он следит крайне внимательно. Стоит кому-нибудь допустить даже самый незначительный промах, как старый Бука превращается в дьявола. Меня восхищает смелость, с которой он вступает со мной в споры.
Тут председатель постучал по пюпитру, призывая присутствующих к порядку. После традиционных прелиминариев слово было предоставлено Блоку, который начал зачитывать свое сообщение. Оно посвящалось математике электрического рулевого двигателя, в частности, тому, при какой конструкции достигается максимальная эффективность управления. По неуверенным манерам Блока становилось понятно, что он впервые выступает с трибуны, и ряды специалистов, перед которыми он очутился, приводят его в замешательство.
Глаза его то и дело обращались к глухому наставнику, а тот следил за каждым значком, выведенным на доске, и время от времени кивал головой в знак согласия. Постепенно, увлекшись, юноша приободрился. Стало ясно, что он всесторонне продумал свое сообщение. Но оно пестрило математическими формулами, и хотя Бука ими, казалось, упивался, формулы эти были выше разумения большинства, не исключая, увы, и меня.
Когда Блок закончил свое сообщение, с места поднялся коммодор.
– Я восхищен ученым докладом нашего юного друга, – сказал он, – но у меня, должен сознаться, есть серьезные сомнения по поводу того, много ли проку от этих формул. Я мореход-практик. Юность моя прошла под парусами в те дни, когда проблемы нам приходилось разрешать не сходя с места, а в таких условиях книжные познания не очень-то пригодились бы. Мы судили о человеке по тому, умеет ли он быстро сымпровизировать новую мачту взамен сломанной, не имея времени рассчитывать ее карандашом на бумаге. Так вот, рулевое управление кораблями – проблема практическая. На мой взгляд, все, чего можно потребовать от рулевого двигателя, – это чтобы он с максимальной точностью и мощностью придавал рулю заданное направление. От рулевого привода требуются сила, жесткость и прочность, все же остальное – от лукавого. Наш юный друг, несомненно, находит свою писанину страшно забавной и интересной, и я к его искусству не испытываю ничего, кроме уважения. Вот поживет он, наберется опыта – и, я уверен, оставит свои забавы с иероглифами на доске, поняв, что на судне они неуместны.
Блок смутился и не находил слов для ответа. Но на его защиту выступил Бука. Он сказал:
– По-видимому, наш доблестный друг не сознает, что положение коренным образом изменилось со времен Нельсона и парусных военных судов. Все правильно, болтовня не спасает от шторма, в искусстве мореплавания крайне важно бороться с трудностями по мере их возникновения и быть способным на импровизации, но, джентльмены, современные машины в непокорности и упрямстве не уступят никакому шторму. Вы должны изучить законы, которым они подчиняются, даже если, на вашу беду, за эти законы надо приниматься с помощью математических формул. Возьмем, например, рулевое управление. Это – нечто вроде контрольно-измерительного устройства. Оно – член прославленного семейства контрольно-измерительных устройств, которые, восходя к регулятору Уатта, регулируют скорость парового двигателя, не давая ему выходить из-под контроля.
К сожалению, минуло три четверти века, прежде чем перспективы такого регулятора были полностью раскрыты. Исчерпывающее объяснение этого маленького устройства впервые дал в своей работе Кларк Максуэлл в 1868 году. Эта работа, джентльмены, изобилует формулами и тем, что мой доблестный друг называет иероглифами.
В частности, Максуэлл разъяснил следующее: если в конструкции регулятора сделать упор только на максимальную силу и мощность, следуя добрым старым традициям британского военного флота, о которых с таким красноречием распространялся здесь наш доблестный друг, то регулятор пойдет вразнос, он разлетится вдребезги, джентльмены, и вдребезги разнесет регулируемую машину.
Так вот, рулевое управление на судне весьма сродни регулятору и пусть Максуэлл не писал о рулевом управлении корабля, – все равно, сказанное им применимо и здесь. Таково одно из достоинств тех самых иероглифов, к которым мой доблестный друг испытывает столь неприкрытое моряцкое презрение. Они отвечают на многие вопросы, в том числе и на те, которых никто не задавал, когда эти иероглифы впервые были занесены на бумагу. Я непоколебимо убежден, что не одна авария – да-да даже не одно кораблекрушение – произошли за счет конструкции рулевого управления, конструкции в добром старом простецком британском духе, который нам навязывают как неотъемлемое наше право.
Вспомните, как испытывали новый линкор «Жимнотус», который вышел из-под контроля и наскочил на датский лайнер «Целебес», за каковую проказу нам с вами, добрым британским налогоплательщикам, пришлось потерпеть в чужом пиру похмелье на сумму 80.000 фунтов стерлингов. Отличный корабль «Жимнотус», проектировали его лучшие наши судостроители. Помнится, одним из них были вы, сэр Сесил.
Коммодор беззлобно махнул руной в знак подтверждения.
– Не знаю, кто именно конструировал рулевое управление, – продолжал Бука, – но конструкторы, отталкиваясь от новой отправной точки, неслыханно ограничили свободу движения и придали ему большую мощность, чем когда-либо делалось на кораблях этого класса. Однако ваша это конструкция или нет, вы ее, несомненно, одобрили, поскольку руководили постройкой всего судна. [№ 3, c. 40]
Вы ведь помните: во время испытаний на крутом повороте штурвал «Жимнотуса» внезапно начал рыскать и качаться, абсолютно выйдя из повиновения, и судно, проделав несколько миль в неуправляемом состоянии, врезалось в «Целебес».
Если мне не изменяет память, сэр Сесил, вы сами опубликовали спецификации рулевого управления в «Корабельном инженере и судостроителе». Я имел сомнительное удовольствие изучить эти спецификации в свете теории Максуэлла и вычислить ожидаемые эксплуатационные качества корабля. Точность опубликованных вами данных подтверждается моими выводами.
Корабль вел себя в точности так, как я и предсказал бы: жесткость рулевого управления не могла не привести к дорогостоящему бедствию. В свете всего этого, как мне думается, сэру Сеснлу будет труднее так безоговорочно клеймить математику и иероглифы, ему придется допустить вероятность того, что все же в работе мистера Блока есть какой-то смысл.
Коммодор совсем не пришел в восторг от этих замечаний, но с обычным для него грубоватым благодушием умудрился пропустить их мимо ушей. Он посмотрел на часы.
– К сожалению, я опаздываю в Адмиралтейство. Подвезти вас к отелю, Джеймс?
Поблагодарив, я отказался. Мне хотелось получше приглядеться к Вудбери и выяснить, что он за птица.
Вудбери как раз обменивался последними словами со своим младшим другом, который явно торопился на «Пенанг-Лойер». Я представился Буке.
– Мне знакомы кое-какие ваши работы по механизмам управления, – сказал я. – Я давно надеялся, что мне представится случай побеседовать с автором. Не могли бы вы со мной поговорить?
Вудбери как будто ничего не понял. Вспомнив о его глухоте, я повторил то же самое, но погромче.
– Да, с удовольствием, – ответил старик. – А как бы вы отнеслись к чашке чаю? Здесь за углом – одна из чайных Лайонса. Кстати, вы, случайно, не тот самый Джеймс, который «магнитная прокладка Джеймса»?
Я сознался, что работал в этой области.
– Неплохое устройство, – сказал Вудбери. – Но вы, по-моему, не до конца исчерпали свою идею. Вот о проблемах контроля и регулировки у вас там представления довольно правильные. Однако вы ограничились только тем, что лежало на поверхности, вместо того, чтобы осмыслить всю работу в целом, с более общей точки зрения.
Я согласился с Вудбери. У меня тоже мелькали подозрения, что мы еле-еле сияли верхний слой пенок.
В чайной я заказал чашку того напитка, который у англичан именуется «кофе», а Вудбери взял себе лепешку и темный, густой, ядовитый чай. Я сказал:
– Не слишком ли круто вы сейчас обошлись с коммодором? До меня доходили слухи о скандале при испытаниях «Жимнотуса», но я думал, что коммодора оправдали по суду. С тех пор мне хочется поподробнее узнать о фактической стороне той истории.
– Действительно, суд его обелил, – сказал Вудбери, – и всю вину свалили на юного Паркинсона, который непосредственно разрабатывал узел рулевого управления. Беднягу Паркинсона это доконало. Может, там и есть его доля вины, но, как он сам мне говорил, ему хотелось сконструировать управление более жесткое, а коммодор и слышать об этом не желал. В конце концов, коммодор уговорил Паркинсона развить его, коммодорские идеи прочности и массивности. До того извел несчастного, что у того не хватило энергии отстоять свои собственные идеи. По отношению к коммодору, который пригрел его под своим крылышком, он вел себя вполне порядочно. Хоть коммодор, в общем-то, и старый болван, намерения у него были наилучшие (правда, добрые намерения не оправдывают воинствующей некомпетентности), и Паркинсон, которому так или иначе пришлось бы уйти со службы, не видел смысла в том, чтобы впутывать старого шефа в неприятности.
– Примерно так мне и передавали, – сказал я, – но оставим этот занятный эпизод, отошедший в историю, и перейдем к нашим с вами делам. Мне бы хотелось побольше узнать об идеях, которые положены в основу сообщения Блока.
– И мне бы тоже хотелось обсудить их с вами, – ответил Вудбери, – но здесь мы, сами видите, привлекаем чрезмерное внимание, ведь чайная – неподходящее место для разговоров с глухим. Пойдемте-ка ко мне домой, там нас не будут отвлекать посторонние. Остановка омнибуса тут же за углом.
Я с радостью принял приглашение, но предложил нанять кеб. Нас повезли по трущобам восточной части Лондона и кварталам жилых застроек, немногим менее унылым: на много миль тянулись совершенно одинаковые ряды одинаковых кирпичных домиков, ничем не отделенных от улицы; лишь изредка мелькали чахлые, жалкие садики. Я вспомнил гравюру Доре – длинные ряды таких домиков на склоне убогого холма, – достойно иллюстрирующую дантов ад.
В доме, у двери которого Вудбери остановил кеб, ютилась жалкая кондитерская.
Вудбери открыл дверь ключом. Раздался заунывный звон, и появился тучный, ничем не примечательный человек, которого Вудбери мне представил как своего брата Мэтью. Между братьями замечалось внешнее сходство, но в лице Мэтью начисто отсутствовало выражение бешено работающей мысли, придававшее яркую индивидуальность заурядному облику Буки.
– Очень рад познакомиться, – Вудбери-лавочник произносил «р» заднеязычно, как водится на севере Англии; такое же произношение, хоть и гораздо слабее выраженное, можно было уловить и в речи его брата.
Бука провел меня на второй этаж, в свою комнату (вернее коморку), обстановка которой состояла из походной койки, двух стульев с мягкой обивкой, явно приобретенных по случаю на распродаже, книжного шкафа, битком набитого техническими монографиями и журналами, да простого ломберного столика взамен письменного стола. Стены были обклеены аляповатыми обоями с рисунком из роз и фиалок.
В книжном шкафу я обнаружил собрание работ Вудбери, вышедшее в нескольких томах в одном из известнейших издательств технической литературы. Я крайне заинтересовался.
– Скажите, пожалуйста, где можно достать эти тома? – спросил я, – Я их искал-искал, из кожи вон лез, но мой поставщик книг уверяет, что это издание прекращено.
– К сожалению, он прав, – сказал Вудбери. – Издатель не нашел для них сбыта. А на складе книги занимали слишком много места, вот он и сжег весь тираж, а набор рассыпал. Зато здесь неподалеку есть букинистическая лавка, где еще завалялись несколько экземпляров; там от них никак не могут избавиться. Если хотите, я вас познакомлю с букинистом.
– Конечно, хочу, – ответил я. – Но прежде расскажите мне о том, что содержится в этих томах, – из ваших уст я бы воспринял с наслаждением. Мне кажется, впечатление будет куда глаже и ярче, если не просто читаешь книгу самостоятельно, произвольно толкуя текст, а слышишь его от самого автора, с правильно расставленными акцентами.
Вудбери охотно согласился излагать свои излюбленные мысли, а я так и рвался послушать. Начал он с рассказа о своей концепции: контроль и управление – это беседа человека с машиной. Развивая свои идеи, Вудбери постепенно оживлялся.
– Эта беседа не должна принимать форму монолога, – говорил он. – Человек не просто отдает машине приказы, и машина не слепо ему повинуется. Должен происходить диалог, в процессе которого машина знакомит оператора с трудностями поставленных перед нею задач и анализирует полученные приказы, чтобы выполнить эти задачи наилучшим образом. А наилучший образ укладывается в рамки четких математических определений.
С энтузиазмом говорил Вудбери о языке, на котором следует вести такую беседу, о скрытом языке машин и о том, что многие инженеры склонны чрезмерно упрощать его при переводе.
– На сегодняшний день инженеры-электрики лепечут, как грудные младенцы. Они умеют обращаться с сопротивлениями, даже с иидуктивностями, но ведь все эти штуки разговаривают очень уж детским языком. Если в такую аппаратуру ввести два сообщения одно за другим, то они так и останутся рядом и будут только плюсоваться друг с другом. А вот у парового двигателя, электрического генератора или электромотора язык неизмеримо сложнее, он подчиняется законам синтаксиса, и эти машины не просто повторяют различные веденные в них сообщения одно за другим. Разумеется, мы пока знаем лишь начатки их языка, еще не изучили даже грамматики, и вот над нею-то я сейчас работаю.
Вудбери продолжал развивать свои мысли об этом языке и его прекрасной грамматике. Передо мною предстал новый технический мир: в том мире поняли принципы машин и их изысканного языка и овладели этими принципами; в том мире изобретение – не случайная удача мастерового в цехе, внезапно увидевшего, что две детали, соединяясь, образуют третью, а великое начинание, запланированное с самого начала и до конца, причем многообразные поставленные проблемы неизбежно ведут к стройному решению. Для этого необходимы два условия: арсенал элементов, более гибких, чем те, которыми располагает нынешний инженер, и система принципов конструирования, иначе говоря, техника как наука.
Эту-то техническую науку обрисовывал в своих словах Вудбери, и мне стало ясно, что его концепции разумны и верны. Однако элементы, необходимые для того, чтобы эти идеи воплотились в жизнь, находились в ту пору в зачаточном состоянии. Элементы, которых требовали идеи Вудбери, можно было заменить различными устройствами, но для этого нужна была единая, всеобъемлющая программа, сделавшая бы их дешевыми и общедоступными.
Боясь переутомить старика, я решил, что мне пора закругляться. Сквозь запахи тушеной баранины и капусты, а также интимные ароматы кое-как ведущегося домашнего хозяйства Вудбери повел меня к двери. Он проводил меня в окрестную букинистическую лавчонку, где я приобрел полное собрание его сочинений. Затем он усадил меня в кеб на стоянке. Нет, не зря я пошел к нему в гости. [№ 3, c. 41]
Мне еще предстояли поездки по судостроительным и электротехническим заводам континентальной Европы. Я сел на пароход, идущий в Голландию. С первыми лучами солнца высадился на берег и впервые в жизни очутился в стране, где ни словечка не понимал из того, что говорилось вокруг.
Первым в моем списке числился Роттердамский судостроительный завод. Программа визитов, надо сказать, была у меня напряженная. Зато тамошние коллеги, с одинаковой беглостью говорившие по-английски, немецки и французски, отнеслись ко мне с теплотой и пониманием.
Из Нидерландов я направился в Рурский бассейн – этакую промышленную пустыню с оазисами угольных шахт, терриконов и сталелитейных заводов. Затем через Вильгельмсгавен, Бермен и Гамбург приехал в Киль. Там я окунулся в иную атмосферу: своеобразную смесь несколько педантичного интеллигентского отношения к технике с верой в историческое предназначение Германии, агрессивной уверенностью в том, что Германии как обладательнице лучшей техники предначертано мировое господство.
Следующую после Германии остановку я сделал в Швейцарии. Меня удивило, до чего важную роль играет судостроительная техника в этой сухопутной стране. Швейцария не только производила судовые двигатели и судовое электрооборудование для сопредельных морских держав, но и сделала своей монополией конструирование и изготовление двигателей для озерных и речных судов, а также для барж, плавающих по Рейну.
…Обратному пути домой из Триеста был свойствен осенний привкус, столь отличный от духа освобождения и предвкушения, которым проникнута поездка в отпуск в Европу. Во время плавания я успел заново продумать сделанную работу.
Много времени уделял я чтению и перечитыванию трудов Вудбери. Благодаря тому, что он снабдил меня ключом к своему строю мыслей, мне стали ясны многие положения, которые иначе от меня бы ускользнули. Литературный стиль Вудбери отличался резкостью и колкостью, как и следовало ожидать, судя по характеру старика. Эти труды с удовольствием прочел бы и непосвященный.
Математическая мысль у него работала не строго научно, а скорее интуитивно, и значение многих формул я осилил лишь после того, как самостоятельно проделал долгие выкладки с карандашом и бумагой. Отношения с профессиональными математиками у Вудбери сложились натянутые. Профессиональные математики поносили его за недостаточно строгую научность изложения. Он, в свою очередь, клеймил их как узколобых формалистов, играющих в искусственно надуманную игру по произвольным правилам методологической корректности.
1909–1913
В Америку я вернулся, убежденный в том, что Вудбери открывает нам новую эру математической техники. Правда, я понимал, [№ 4, c. 42] что до окончательного торжества его усилий далеко: пока ведь нет новых практичных устройств, невозможно реализовать его новые принципы. И даже с появлением таких устройств эти принципы не будут реализованы полностью, пока другие умы не научатся поспевать своею тяжелой поступью за безудержным полетом титанического воображения Вудбери.
Я отчитался перед Уильямсом о результатах поездки и получил от него новые задания. Мой доклад он выслушал, со вниманием и интересом. Попутно вставил несколько метких реплик о людях, с которыми я встречался, и о том, как различие национальных мировоззрений проявляется в технике. Особенно заинтересовала его моя встреча с Вудбери и, в частности, то, как я оцениваю потенциальные возможности его работ.
– Никогда не мог одолеть ни одной его статьи, – сказал Уильямс. – Человеку, не подкованному в математике вроде меня, они недоступны. Но я неоднократно ломал голову над тем, нет ли там чего-то важного, такого, что рано или поздно нам пригодится. Весьма рад, что и вы придерживаетесь такого же мнения. Держите меня в курсе того, чем он занимается, и делитесь своими соображениями. Вы правы, а ближайшее время мы этого не сможем использовать. Но ведь мы, надеюсь, не сворачиваем своей деятельности. А чтобы не пришлось сворачивать деятельность фирмы, надо шагать в ногу с последними достижениями.
Я решил поменьше распространяться о том, как провел отпуск. Наверное, Уильямс заметил этот пробел в рассказе, ибо в глазах у него сверкнул благожелательным, но ехидный огонек. Впрочем, на подробностях он не настаивал.
– А теперь, когда вы рассказали о своих приключениях, выслушайте новости – у меня их целая куча. Во-первых, я решил перебросить нашу контору в Нью-Йорк. Даже в лучшие свои времена Стейт-стрит была всего лишь придатком к Уолл-стрит. С каждым годом превосходство Нью-Йорка растет. А ведь «Уильямс и Олбрайт» становится крупной фирмой. С такого расстояния мы уже не сможем присматриваться к рынку, как делали прежде. Да и Салемские верфи не очень-то меня устраивают. Уж очень они тесны. Водоизмещение судов неуклонно растет, и для кораблей, которые мы собираемся строить и ремонтировать, гавань недостаточно глубока. Есть у Салема и еще более серьезный недостаток. Судостроение нуждается в постоянном притоке тяжелых грузов, доставляемых товарными составами. Так вот, мало того, что в Салеме для прибывающих составов слишком мало запасных путей, – поездам к тому же приходится делать крюк на Бостон, а там их задерживают на несколько дней. Откровенно говоря, я вообще не уверен, подходящее ли место для судостроения Новая Англия. Лично я охотно перебазировался бы в Чезапикский залив. Но Олбрайт мыслит иначе. Он считает нас новоанглийской фирмой и хочет, чтобы мы такими и остались. Я выбился из сил, пытаясь уговорить его перебраться куда-нибудь из Салема. Когда речь заходит о Чезапике, он просто-напросто упирается, как мул; я уж боюсь, как бы он не сорвал нам планов.
Но теперь я и сам не рвусь в Чезапик. Мы завладели славненьким участком земли на полпути между Салемом и Наррангасетским заливом. Это снимает проблему круговых перевозок по периметру Бостона. Наш участок расположен вблизи глубоких вод, причем так, что углубить подход к ним будет не слишком трудно. Туда мы перебазируем судостроение, а заодно и значительную часть механических мастерских.
Теперь перехожу к тому, что касается вас еще больше. До сих пор во всем, что относится к организационной стороне дела, мы работали по старинке. История нашей фирмы сводилась, в основном, к истории случайностей. Новые наши мероприятия требуют новой организации, достаточно современной и соответствующей нашему повысившемуся статусу. Реорганизацию надо проводить сейчас, не то пройдут годы, прежде чем еще раз сложится такая благоприятная ситуация.
Как вы смотрите на то, чтобы дорасти до главного инженера фирмы? Нет-нет, на ближайшее время придется поставить над вами фиктивного главного, хотя мы еще и не нашли подходящего человека. Фактически же исполнять обязанности главного инженера будете вы. На ближайшее время придется подыскать на эту должность человека постарше; правление не утвердит вашей кандидатуры, поскольку вы чуть-чуть молоды. Но помните: когда ваш шеф выйдет в отставку по возрасту, руководящая должность за вами.
– И все же это как-то несправедливо, – заметил я. – Уотмен здесь служит дольше меня. Он прекрасно справляется с обязанностями. Я не хочу шагать через голову коллеги. Уотмен – мой добрый друг.
– Об Уотмене я подумывал, – ответил Уильямс. – Он превосходный инженер, не спорю, и я прослежу за тем, чтобы оклад у него был не меньше вашего. Меня в нем тревожит полное отсутствие делового чутья. В цехе ему, конечно, нет равных. Но нам нужен человек, разбирающийся в проблемах конкуренции. Надо полагать, в них разобрался бы и Уотмен, поставь он перед собой такую цель. Беда в том, что он не желает ставить перед собой такую цель. У вас же недюжинные деловые способности. Вы мыслите, как я. В интеллигентном человеке это просто поразительно.
– Рад, что вы позаботитесь об Уотмене, – сказал я. – И все же мне это не нравится. Я должен с ним переговорить, прежде чем со спокойной душой принимать ваше предложение.
– Я с ним об этом уже говорил, – сказал Уильямс. – Он нисколько не возражает. Наоборот, ему же лучше, он продолжает работать в фирме, оклад ему повысили, но теперь ничто не отвлекает его от лаборатории и цехов. Но согласен, лучше будет, если вы сами выясните с ним отношения. Между прочим, контору мы перебрасываем в Нью-Йорк весной. Я тут прикидывал, как вы устроитесь с жильем. Вы человек холостой и в обозримом будущем как будто не собираетесь жениться. Хотите жить в одном нью-йоркском клубе? Я состою членом клуба «Да Винчи». Он мне очень нравится. Это не клуб художников. Имя ему присвоено в честь другой стороны да Винчи, о которой мало кто осведомлен. Насколько я понимаю, старикан был по совместительству инженер, к тому же талантливый, хоть и примитивный. На днях я просматривал его блокноты. Текста мне не удалось разобрать (говорят, записи зашифрованы), но чертежи показались мне удивительно современными. Клуб «Да Винчи» состоит из инженеров и бизнесменов вроде меня, связанных с техникой. На той неделе поезжайте-ка вместе со мной в Нью-Йорк. Все равно вы мне там будете нужны применительно к моим новым планам. Заодно осмотрите клуб. Если он вам понравится, я проведу вас в члены. Он расположен совсем рядышком с тем участком, где будет наше новое административное здание, и по идее это как раз то, что вам нужно.
Я поблагодарил Уильямса за доброту и за новое мое служебное положение. Ничего подобного я не ожидал, во всяком случае, в ближайшие годы. Упоенный успешностью поездки, счастьем отпуска и теперешним продвижением по службе, я от ликования ног под собой не чуял.
Оставалось переговорить с Уотменом, удостовериться, что я не встал у него поперек дороги и что меня повысили с его согласия. Разговор прошел легче, чем я ожидал.
Уотмен – добрейший и скромнейший малый из всех, кого я знаю. Вместо того чтобы позавидовать моему повышению, он растрогался тем, что из уважения к нему я отказывался от предложенной должности и, прежде чем соглашаться на нее, дал себе труд испросить его согласия.
– Уильямс совершенно прав, – сказал он. – Я люблю цех и конструкторское бюро, контора же меня угнетает. Не нахожу никакого удовольствия в ситуации, когда кто-то норовит со мной разделаться, а я должен успеть с ним разделаться первый, иначе с меня сдерут шкуру заживо. Покер – игра не для меня. А вот ты, старый торгаш, – я ведь вижу, когда надо помериться смекалкой с другими, ты так и кидаешься в бой. Упиваешься этим, как солдат упивается зовом трубы и приказом «в атаку». Брось обо мне думать, Грегори. На эту должность Уильямс выбрал самого достойного. Я бы ее не принял, даже если бы подносили на серебряном блюдечке, а вот ты должен принять. Душевно рад твоему успеху. Всегда можешь рассчитывать на мою неизменную поддержку.
На душе у меня полегчало. Я стал разбирать горы корреспонденции, скопившейся на столе в мое отсутствие. Мгновенно оказался по горло загружен работой: два-три патентных дела, составление доклада о новом заводе, который собирался купить Уильямс, несколько жалоб заказчиков, масса каталогов, циркуляров и рекламных объявлений.
Во всю эту сутолоку я окунулся охотно и энергично. К тому времени вера в Уильямса дошла во мне до той черты, когда я бы без угрызений совести выполнил любое его задание.
Когда я, чуть не захлебнувшись в скопившейся работе, все же вынырнул на поверхность, для меня окончательно прояснилось значение административных перемен, введенных Уильямсом. Новым главным инженером фирмы стал Картер Андерсон. Этот пятидесятилетний человек, много лет прослуживший в одной из крупнейших американских технических фирм, вызывал к себе бурный интерес, обусловленный множеством своих изобретений. Изобретения шумно рекламировались в печати, а Картер Андерсон мало-помалу превратился в национального героя. Прежний его наниматель считал его чем-то вроде дополнительной торговой марки в производстве и сбыте. Предложив ему баснословный оклад, мы закрепили за собой его услуги и славное имя, а также унаследовали от прежнего нанимателя почти весь престиж той фирмы.
В жизни Картер Андерсон был щепетильным, педантичным коротышкой, далеко не таким внушительным, как Картер Андерсон легенды. Работалось с ним легко, и все десять лет, проведенные у нас, он служил превосходным щитом и заслоном для младших служащих, которые не могли сами высказаться с его авторитетностью. [№ 4, c. 43]
Андерсон был в фирме новой фигурой и привлекал к себе наибольший интерес общественности, но гораздо важнее для будущего фирмы оказался А.Р. Паттерсон, наш новый специалист по рекламе. Позднее мы, отдавая дань веянию времени, переименовали его должность в «начальника отдела общественных сношений», но этот этап настал еще не скоро. Паттерсон перешел к нам из рекламного агентства «Акме». Еще раньше он подвизался в качестве репортера в «Нью-Йорк патриот». Это был щуплый молодой человек с нетерпеливыми манерами, общительный до агрессивности. В нем поразительно уживались бывалость и наивность. Он досконально изучил все приемы рекламного искусства, все способы выдать солонину с капустой за натуральный английский бифштекс и все штампы, на которые охотно клюет публика.
Пусть он не верил в сочиняемые им рекламные байки, зато свято верил в те штампы, глубже укоренившиеся, которые лежат в основе рекламы как таковой. Он верил в нерушимость конкуренции и частной инициативы, в массовое производство как способ довести недорогие товары до широких слоев населения и в искусственно формируемое мнение искушенного покупателя как лучший метод обеспечения сбыта, необходимого при массовом производстве. В повседневной жизни он повиновался предписаниям текущих реклам, словно сам не нюхал закулисной стороны и не ведал, как создается всякая реклама. Он всеми силами стремился курить те сигареты, есть самому и впихивать в детишек ту пищу, носить именно такие костюмы и шляпы, в каких джентльмены романтически элегантной наружности щеголяют на рекламных полосах.
Новую нашу контору предстояло разместить на 4-й авеню в старинном особняке, который одиноко, словно корабль на мели, торчал посреди делового района: город буйно разрастался. Этот особняк мы полностью перестроили, стараясь достигнуть компромисса между несовместимыми вкусами Олбрайта и Уильямса. Снаружи мы почти ничего не меняли. Внушительное здание из бурого песчаника, с улицы каменные ступени высокой лестницы ведут туда, где прежде находились холл и парадная гостиная. То и другое мы объединили, превратив в приемную. Центральный кабинет оборудовали в бывшей задней гостиной. Лейтмотивом его отделки было ореховое дерево, тускло поблескивающее полировкой. Темно-красные драпри, скромные ореховые панели, широкий, покрытый стеклом письменный стол Уильямса – тоже из ореха. Насколько я помню, стол ничто не загромождало, кроме телефона, проволочной корзинки для бумаг, заполненной упорядоченными кипами входящих, да ониксового чернильного прибора (последний – чей-то подарок).
Над столом повесили копию портрета первого Олбрайта – салемского купца, в дни федералистов основавшего фирму. Он стоял на фоне богатого парчового занавеса, в нанковых панталонах и рубашке с кружевными гофрированными манжетами, с подзорной трубой в руке и вглядывался в пейзаж – китайские пагоды и джонки. На заднем плане разгружалось одно из судов олбрайтова флота.
Створные, до полу, окна кабинета выходили в бывшую оранжерею, ныне – миниатюрный садик с несколькими деревьями в кадках, стиснутый брандвахтами соседних административных зданий. Возле этих окон, поодаль от письменного, водрузили длинный, тоже ореховый, стол для заседаний, окруженный деревянными креслами, каждое из которых было украшено фамильным гербом Олбрайта: фирма взяла его в качестве эмблемы.
Остальные помещения на втором и третьем этажах заняли клерки и младшие администраторы вроде меня. Удобные комнаты, в них приятно работать, но отделаны и обставлены с сугубой практичностью.
Кстати, фирма «Уильямс и Олбрайт» не отставала от времени еще в одном вопросе: о женщинах-сотрудницах. Женский персонал вовсе не был фирме в диковинку. Уже много лет назад рукописные бумаги, тщательно заполненные каллиграфическим и, как правило, мужским почерком, уступили место листам, сходящим с пишущих машинок того времени, – что греха таить, чрезвычайно громоздких. За машинками сидели молодые женщины с высокими прическами а-ля помпадур, в белых накрахмаленных блузках и черных мериносовых юбках. В ту пору женщин на работу брали далеко не всюду, в коммерческих учреждениях положение их еще не определилось. Они служили секретаршами у руководителей фирмы, и в целом их роль сводилась к роли служанок, а не нужных, хоть и подчиненных, членов рабочего делового коллектива.
Уильямс опередил свое время, поняв, какую важную работу могут выполнять в конторе женщины в качестве личных доверенных секретарш, сотрудниц фирмы и даже ответственных администраторш. В верхних помещениях безостановочно цокотали пишущие машинки, взад-вперед сновали стайки молодых женщин. Что до личных секретарш, то руководящему составу он советовал подбирать компетентных молодых женщин, способных досконально изучить наше делопроизводство.
Само собой разумеется, у Уильямса секретарши сменялись как перчатки. Наконец, он нашел такую, которая справлялась с работой и даже стала незаменимой. Звали ее Мэриен Сомерсет. Много лет подряд она была в курсе всех дел конторы и еще много лет после этого разделяла все жизненные интересы Уильямса, поскольку ей суждено было стать его второй женой. С тех пор она ничуть не изменилась, такая же тихая, застенчивая, компетентная, внимательная к другим, деликатная, но сразу превращается в тигрицу, стоит только кому-нибудь задеть Уильямса или его друзей.
Мы с ней сразу подружились. Нас объединяли общее восхищение Уильямсом и беззаветная преданность ему. В том, что касалось его секретов, мисс Сомерсет была тверда, как скала, но все же ухитрялась держать меня в курсе общей атмосферы, общего положения вещей. Не кому иному, как ей, обязан я многими материалами своих мемуаров – теми материалами, с которыми мне не приходилось непосредственно соприкасаться по службе. С частью она познакомила меня тогда же, а с остальными – много позже, когда описываемые события отошли в прошлое и никто уже не страшился огласки.
Наступил период новых назначений. Долгое время Сойер фактически возглавлял строительные работы на стапелях, не имея никаких официальных полномочий; теперь его сделали начальником отдела. С тех пор Паркер попал к нему в подчинение. Адамса официально назначили главным механиком. Этот долговязый сутулый блондин отличался практической сметкой опытного механика и знал решительно обо всем, что творится на заводе. Я неоднократно пользовался удобным случаем поговорить с ним, но ни разу не заметил и проблеска интереса к чему бы то ни было, выходящему за пределы его обязанностей.
Уильямс повел меня обедать в клуб, как и обещал. Мне всегда импонирует клубная обстановка, клуб же «Да Винчи» особенно привлек меня. Мне понравилась атмосфера небрежного приятельства пополам со сдержанностью, при которой личные излияния не только не обязательны, а прямо-таки неуместны. Мне понравились вечерние партии в бридж, давшие мне возможность дружески общаться с прочими членами клуба и в то же время сохранить внутреннее одиночество.
Я понял, что, предложив мне рекомендацию а члены клуба, Уильямс сделал за меня мудрый выбор. Его предложение я принял с сердечной признательностью. На другой же день он выдвинул мою кандидатуру. Она прошла, и я перебрался на новое жилье.
Однако все свое время я не мог там проводить, поскольку у меня в Наррангасетском заливе было забот по горло: предстояло сперва развернуть там новые предприятия, а позднее ознакомиться с их работой. На заводе у меня был просторный, хоть и непритязательно обставленный кабинет, в смежной с ним комнате стояла для меня койка.
Из-за моего неамериканского происхождения Уильямс с крайней готовностью посылал меня иногда в заграничные командировки.
Светлыми пятнами в моих поездках были собеседования с Вудбери. К тому времени я освоился с идеями старика и без особых затруднений самостоятельно одолевал новые его статьи. А они появлялись в большом количестве, и это доказывало, что концепция проблемы управления у него беспрерывно развивается, а ее отдаленные последствия растут.
Не стану утверждать, будто его статьи читались легко; легкость чтения так и не пришла, но, по крайней мере, я наталкивался только на те трудности, которые были неизбежно обусловлены самим предметом, а также своеобразным складом ума Вудбери и нестандартным путем самоучки, каким он продвигался к своим выводам. Вудбери всегда был личностью, иногда – чудаком, но обскурантистом – никогда.
Узнав его получше, я понял и простил ему многие странности. Родился он на Тайне в семье рабочего-судостроителя, семье настолько бедной, что, хотя нормальным питанием там считали трехразовое, трижды в день им удавалось поесть лишь от случая к случаю. Братья у него были покрепче здоровьем, радовали отца энергичностью и ярко выраженным стремлением вырваться из своей среды в низшую прослойку среднего класса. Мать Вудбери умерла, когда он был еще мальчиком. Ребенок рос хилым, но обещал успешно бороться с обстоятельствами, которые складывались для него крайне неблагоприятно, да как будто и не испытывал особого желания побороть их. Должно быть, именно в детстве он перенес мастоидит (воспаление сосцевидного отростка), приведший его к глухоте.
Все это я выведал у владельца Тайнсайдской верфи, у которого работала вся семья Вудбери и который сам любопытствовал о курьезном старом чудаке, занимающем столько времени на заседаниях и столько места в журналах.
Когда Вудбери подрос, отец пристроил его было на работу клепальщиком. Силенок ему не хватало даже на день. Видимо, он не был пригоден ни к какому труду, [№ 4, c. 44] кроме самого легкого, и в конце концов его взяли уборщиком в чертежную.
Подметал он с усердием. По правде говоря (он сам мне рассказывал), его снедало любопытство, разжигаемое чертежами на кульманах да обрывками случайно подслушанных разговоров между чертежниками и конструкторами.
Дважды сторож застигал его в тот миг, когда он раскрывал снятую с полки техническую книгу, и оба раза делал ему суровое внушение. Один из чертежников, расположенный к Вудбери, предостерег:
– Берегись, как бы тебя опять не застукали, иначе выгонят. Но если ты действительно хочешь знать, что написано в этих книгах, то их ведь можно найти в городе, в Рабочем институте.
И вот Вудбери стал часто посещать Рабочий институт, просматривать там книги по технике. Он столкнулся с множеством препятствий: целые страницы были написаны совершенно неведомым ему языком математики. Он даже не знал, что это и есть математика: в школе его обучали только начаткам арифметики, алгебра же осталась для него за семью печатями. В конце концов, собравшись с духом, он заговорил со своим покровителем-чертежником, спросил, что означают странные значки. Последний снял с полки несколько учебников алгебры, геометрии и тригонометрии и посоветовал Вудбери поискать такие же в Рабочем институте.
Так состоялось знакомство Вудбери с математикой. Поначалу дело шло со скрипом, но постепенно он понял, что чудные закорючки все же имеют смысл и могут пригодиться инженеру. Вудбери приходилось не просто учиться, а в известном смысле самостоятельно «открывать» математику с самых азов. В результате он постиг глубины предмета, но подход и терминология остались у него свои, не так-то легко передаваемые другому.
Тщедушным человечком, который на вопросы отвечал лишь после того, как их повторят дважды, и так мужественно искоренял в себе ограниченность, заинтересовались и прочие чертежники. Кончилось тем, что его зачислили самым младшим чертежником, положив такой оклад, чтобы он только-только ног не протянул с голоду. Новая работа пленяла Вудбери, и он прилежно выполнял все то, что имело к ней хоть какое-то отношение.
Спустя несколько лет он начал посылать редакторам всевозможных научных журналов заметочки о своих наблюдениях, оформленные как письма в редакцию. Постепенно в узком кругу серьезных инженеров он приобрел известность как человек, чьи замечания зачастую оказываются дельными. Вскоре он стоял на верном пути к тому, чтобы превратиться в одну из мелких знаменитостей технического мира. И пусть благодаря этому он получил постоянную работу, все равно на ступенях лестницы, ведущей к преуспеянию, он так и не закрепился.
Кому нужен чертежник, который, когда ему дают срочную работу, бессмысленно сидит да размышляет о теориях, лежащих в основе этой работы? Добро бы еще предлагал практичные, реальные усовершенствования, годные к немедленному внедрению! Но нет, хоть Вудбери так и сыпал идеями, идеи эти могли окончательно вызреть не ранее чем лет через пять.
К тому же повышению по службе препятствовала растущая глухота. Тот, кто не хочет упускать удобного случая, должен знать каждую сплетню, улавливать каждую мелочь, каждую необычную интонацию. Глухота, ставшая помехой продвижению, замкнула Вудбери в самом себе и позволила всесторонне продумывать проблемы техники.
Итак, способности Вудбери, принесшие ему какое-то подобие репутации в стороне от службы, на самой службе завели его в тупик. Даже чертежником он продержался недолго. Лет в тридцать пять, когда к большинству мужчин только-только приходит второе дыхание, Вудбери уволили. Во-первых, глухота его, прогрессируя, достигла такой стадии, что с ним трудно стало общаться; но мало того – на нем сильно сказывались вторичные последствия глухоты. По мере того как общаться с ним становилось все сложнее в физиологическом отношении, он наращивал в себе эмоциональную компенсацию, из-за чего общение еще пуще усложнялось в отношении психологическом.
Он знал о своих зарытых в землю талантах и прозревал, что ему не суждено преуспеть в мире сем. И вот он нацелил себя не на то, чтобы завоевать репутацию человека, чего-то достигшего, а на то, чтобы по-настоящему чего-то достигнуть. В нем росли неуемная всепожирающая гордыня и решимость никогда не поступаться своею независимостью, невзирая ни на какие лишения. В нищете Вудбери родился, в нищете жил. Поистине и умереть ему было суждено в нищете. При своем образе жизни, которого он не выбирал, но с которым смирился, Вудбери нажил множество врагов, виной чему были его язвительный язык, язвительное перо и нежелание идти на компромиссы. Даже уважавшие его люди называли его чудаком и придурком.
Правда, по малейшему поводу он хорохорился, как бойцовый петух. Правда, даже очень привязанным к нему людям (а таким, льщу себя надеждой, был я) он неразборчивой рукой наносил удары, и люди терпели. Но все же те, кто дали себе труд сойтись с ним покороче, под устрашающей оболочкой обнаруживали море чуткости, дружелюбия и ребяческого отсутствия эгоизма.
Он вовсе не был персонажем рождественской пьески, не был милым старым джентльменом, отбрасывающим прочь заскорузлую личину ворчливости, за которой укрывался вплоть до последнего акта. Никогда не был Скруджем из первой части диккенсовской повести, он так и не стал Скруджем из второй части. Он весь щетинился, он критиковал всех и вся, он ненавидел сантименты и лживость их изъявления. Но зато любой безвестный юный коллега мог рассчитывать на столь же внимательное выслушивание и столь же критическое, но честное обсуждение, какими Вудбери удостоил бы, скажем, новоиспеченного лауреата Нобелевской премии. После такого собеседования с Вудбери (это я отлично знаю, ибо несколько раз присутствовал на обсуждении своих работ и выслушивал комментарии Вудбери, а также участников помоложе) появлялось ощущение, будто ты выскочил из адского пекла и окунулся в прозрачный, прохладный ручей. Бывало, посоветуешься с Вудбери относительно своих работ, и все неясные пункты, все смутно ощущаемые недочеты начинали сиять вовсю, как звезды в ясную зимнюю ночь. Вудбери заставлял меня осознать мои же идеи, хоть при этом и навязывал свое прозрение, критичность и дисциплинированность. Он проделывал большую часть работы, но никогда не притязал даже на ничтожную ее долю. Мне он щедро приписывал авторство на идеи, которые, возможно, и мелькали у меня в невразумительной форме, но по-настоящему я их не понимал.
Более того, перед всяким похитителем идей, который, возможно, только и подстерегал удобного случая выкрасть и прикарманить одно из изобретений Вудбери, он был беззащитен. Не один раз публиковал Вудбери какую-нибудь заметку, которая, позаботься он только о том, чтобы защитить свой приоритет, послужила бы отличной основой для патента. Подобное безразличие к собственным интересам отчасти объяснялось, скорее всего, наивностью, отчасти же, безусловно, сознанием того, что внедрение этих идей – дело далекого будущего, и защищать их до тех пор, пока они не созреют, под силу только богачу.
Вудбери был горд. Гордости его сопутствовали сознание своей высокой миссии и нежелание, чтобы его беспокоили по мелочам. Встречи с Вудбери были для меня интеллектуальным и духовным пиршеством. Верю, что они приносили радость и Вудбери, у которого близких было не много. В ту пору, как я надеюсь и верую, он считал меня настоящим другом.
Часто задумывался я над тем, что подвигает Вудбери на научную работу. Как и всякий ученый творческого склада, работал он в основном потому, что не работать не мог. Бурлившие в нем идеи рвались наружу. Научные теории он развивал с той же естественностью, с какой рифмует поэт или щебечет птица.
Однако на природу его самовыражения, на эмоциональную окраску деятельности влияло множество посторонних факторов. Врожденная вспыльчивость в сочетании с проницательностью направляла его стрелы туда, где они ранили больнее всего. Глухота, невзрачная внешность, ссоры с людьми преградили путь к карьере инженера. Скромное происхождение наглухо закрыло перед ним двери английских университетов, какими они были в то время. Естественным результатом ущемленности стала насущная потребность что-то делать и чего-то добиться, наперекор всем внешним силам проявить способности, которыми, как ему было известно, он одарен. Он родился в семье нонконформистов, получил нонконформистское воспитание, но с формальной религией порвал. Тем не менее зароненные в детскую душу искры нонконформистской праведности разожгли во взрослом Вудбери пламя неистовой принципиальности.
В 1912 году Хелен проводила со мной последние свои каникулы. На Балканах уже вспыхнула война. Будущее Европы представлялось всем в мрачном свете. Хелен показалась мне постаревшей и изможденной, от прежней веселости и ясности уцелела только напускная оболочка. Что-то тяготило Хелен, но я так и не сумел выяснить, что же именно, да и не хотел усугублять ее настроение назойливыми расспросами. Ко мне она проявляла тоскливую нежность, не сравнимую с прежним ее отношением. При расставании вложила мне в руку запечатанный конверт.
1913–1917
Внезапно со страшной силой разразилась буря мирового конфликта (мы-то надеялись от нее упастись, после того как был урегулирован балканский конфликт). В Сараеве убили наследного принца австро-венгерского престола, а армии европейских стран – армии, непобедимые вот уже лет шестьдесят, – гибли одна за другой. Какое-то время мы прожили в робкой надежде, [№ 4, c. 45] что через три тысячи океанских миль не перепорхнет даже облачко войны, что нам удастся избегнуть Армагеддона. Но даже тогда многие из нас чувствовали: особенно рассчитывать на это не приходится.
Наша отрасль процветала. Европа бросила на конфликт все свои ресурсы, и ее верфи были перегружены военными заказами. Те заказы, которые Америка прежде отсылала за рубеж, доставались теперь американским фирмам. Нам начинала перепадать малая толика барышей, обычно утекавших в Европу.
Поначалу весь этот бум я считал временным, полагая, что через несколько месяцев, когда в Европе победит та или иная из воюющих сторон, он прекратится. Уильямс же к идее непродолжительной войны относился скептически.
– Может, ты и прав, – говорил он. – Даже хотелось бы верить в твою правоту. Ведь если война не затянется, то, кто бы ни одержал победу, у нас все вернется к тому положению вещей, которое тянулось более полувека, и мы прекрасно поймем, чего можно ожидать впредь. Но если силы обеих сторон примерно равны, и война продлится годы, то всем странам достанутся такие колотушки, что вернуться к привычному образу жизни люди уже не смогут. Так или иначе, вероятность того, что нам придется вступить в войну, прежде чем она окончится, крайне высока. На нас это отразится больше, чем на ком бы то ни было. Мы ведь занимаемся морем, а море – именно та сфера, где наши интересы в первую очередь сталкиваются с европейскими. Начинать подготовку сейчас вовсе не преждевременно. А тем временем надо принимать новый бизнес таким, каков он есть, и упрочить наши отношения с правительством, в частности с военно-морским департаментом. Мне известно, что кое-кто из моих служащих являются военно-морскими офицерами запаса. Когда мы ввяжемся в войну, таких станет много больше. Мой вам совет: станьте офицером запаса, и тогда, если грянет гром, мы будем лучше знать, что предпринять. В случае войны многих из вас, скорее всего, направят сюда, по месту прежней работы, курировать судостроение. По крайней мере, нам не придется кланяться в ноги правительству, чтоб вернуло наших работников: оно само нам в ножки поклонится.
Мы вняли намеку Уильямса. Несколько человек добровольно вступили в ряды офицеров запаса. Тех, у кого был опыт плавания, приписали офицерами к определенным судам. Остальных, меня в том числе, взяли на заметку как военно-морских конструкторов. Независимо от того, в какое ведомство нас прочили, каждого из нас, хоть и не одновременно, отправляли в непродолжительный морской круиз, чтобы ознакомить с буднями военно-морского флота.
На мою долю выпало несколько подобных круизов. Обычно меня посылали испытывать новые суда непосредственно перед тем, как их примет заказчик, и сразу после приемки. Я наслаждался романтикой таких круизов: ветер в лицо, быстрый ход корабля, ощущение могущества от того, что мощные двигатели влекут меня вперед, а я над ними хозяин, перепады настроений моря – от мерцающей ряби в ясную погоду, под голубым безоблачным небом, до тайн и опасностей тумана, свирепо вздымающихся валов шторма и свинцовых нависших туч, из-под которых пробиваются последние лучи заходящего солнца.
Помимо развлекательных впечатлений, я воспринял много такого, что мне впоследствии пригодилось. Осмыслил военно-морскую дисциплину – где надо, жесткую и в то же время гибкую в соответствии с переменчивыми требованиями моря. «Отныне, – думал я, – имея дело с военными моряками, я буду понимать и даже в какой-то мере разделять их чувства».
Постепенно, как кое-кто и предвидел, нас втянуло в войну. С тех пор мы удвоили свои усилия в кораблестроении, обслуживали зарубежные и отечественные рынки; особенно много шло заказов из военно-морского департамента. Жили мы в обстановке неослабного напряжения, решали текущие задачи день за днем, по мере того как их перед нами ставили, и очень мало задумывались над общей картиной войны, тем более что непосредственного касательства к нашей работе она не имела.
Для многих текущей задачей были сражения в вооруженных силах или, на худой конец, подготовка к таким сражениям. Стих активного участия в конфликте наций нашел и на мисс Олбрайт: молодых людей в штатском она патриотично хватала за пуговицы и спрашивала, отчего они не на фронте.
А нашим делом было строить корабли, не новые, не усовершенствованные модели, а просто стандартные суда, зато их можно было в какие-то считанные недели спустить на воду, зато они могли принять на борт груз, доставить его в Европу и возместить ущерб, который непрерывно причиняли немецкие субмарины и миноносцы. То было не время понимать, а время работать, и мы работали под неумолчный грохот клепальных молотков.
Волей-неволей я приучился по целым дням не покидать своего кабинета, оборудованного рядом с верфью, никогда не переодеваться, есть за письменным столом (когда сторож принесет еду), поглощать бесчисленные чашки кофе, чтобы не заснуть, и дремать лишь урывками, если напряженность работы на минутку ослабевает, а кофе уже не действует.
Пусть большая часть военных событий до непосредственного нашего восприятия либо вовсе не доходила, либо, если и доходила, то как отдаленный раскат грома до фермера, скирдующего сено, – один вопрос я никак не мог выкинуть из головы, а именно: о революции в России. Мне давно было известно, что царский режим там держится лишь из-за непостижимого долготерпения богов и не столько благодаря темным своим сторонам, сколько вопреки паразитической несамостоятельности. Я прекрасно знал, что есть в России революционеры, готовые воспользоваться этими слабостями и направить Россию по новому пути; больше того, одно время я и сам чуть не стал таким революционером.
Но отвлекающие моменты – отвлекающими моментами, а работы у меня скапливалось все больше и больше, и, казалось, войне не будет конца. Во время перемирия работа стала напряженнее, чем когда бы то ни было. Мы разрабатывали план новой серии, рассчитанной не на месяцы, а на годы вперед, и перемирие пришло, так сказать, не в конце наших стараний, а в самом их разгаре.
Первой нашей реакцией на перемирие была смесь великой радости и великого смятения. Теперь можно было вернуться к мирной жизни и строить долгосрочные планы. С другой стороны, никто не знал, какой будет эта мирная жизнь. Многие надеялись вернуться в мир образца 1914 года, я же с самого начала понимал, что это исключается.
Что касается нашей фирмы, то я, хоть и представлял себе, чем отныне следует заниматься, но ждал команды твоего отца. Какое-то время мы уделили завершению принятых на себя обязательств и ликвидации начинаний, ставших ненужными. Наконец ранней осенью 1919 года мы настолько почили на лаврах, что твой отец созвал совещание в нашей нью-йоркской конторе.
1917–1919
Мы собрались все вместе – впервые за несколько лет. Присутствовал Уотмен в форме лейтенанта военно-морского флота. После службы на эсминце, сопровождавшем торговый транспорт по северной части Атлантического океана, где рыскали немецкие субмарины, он возмужал и обветрился. Присутствовал Олбрайт, вернувшийся из военно-морского департамента и напустивший на себя такую важность, словно в нем, как в драгоценном сосуде, хранятся все секреты военной мощи и военно-морской стратегии. Каммингс тоже служил в Вашингтоне; во внедрении изобретений, которые так помогли нам в войне, ему принадлежала немаловажная роль.
Совещание Уильямс проводил в своем просторном кабинете.
– Предлагаю совместно обсудить вопрос о послевоенном курсе фирмы, – сказал он. – Конечно, придется это потом провести через правление. Но мы, я думаю, должны знать, чего хотим, и стараться получить санкцию правления, а не ждать, пока оно само проявит инициативу. Мы переживаем переломный момент. Это не значит, что в настоящее время дела у нас плохи. Напротив, в финансовом отношении все обстоит как нельзя лучше. Однако война позади, и мы должны решить, что же теперь делать. Мистер Олбрайт, будут у вас предложения?
– Мне кажется, – сказал Олбрайт, – что вследствие войны тоннаж торгового флота всех стран, в том числе и нашего, значительно уменьшился. За рубежом у нас недурные связи. Пусть даже работа, которую мы там заказываем, не так окупается, как та, что мы выполняем своими силами, – все равно, я думаю, немалую прибыль можно получить, продавая за рубеж лицензии на производство судов.
– Согласен с вами, – сказал Уильямс. – В ближайшем будущем здесь никакие проблемы не возникнут. Пожалуй, бум в судостроении продержится еще долго. И все же я бы не стал целиком и полностью на это полагаться. Лично я в дальних перспективах не уверен. Джеймс, вот вы неплохо изучили Англию и многое узнаете от своих английских корреспондентов. Не можете ли сообщить, как там обстоят дела?
– Не берусь рисовать радужную картину, – ответил я. – Конечно, вследствие войны повсюду имеет место острая нехватка товаров, и при восполнении этой нехватки нам будет где руку приложить. По-моему, бум не за горами. А что потом? Не знаю, представляете ли вы, до какой степени пострадала от войны Европа. Во Франции и Бельгии фронт проходил по участкам, наиболее насыщенным промышленными предприятиями. Те, что уцелели в боях, разграблены противником в затишье. Но даже если отвлечься от этого, то пять лет лишений выведут из строя любой завод. Пока что налицо пустота, которую необходимо заполнить, и страны, где промышленность на ходу, заполнят ее первыми. [№ 4, c. 46]
Меня часто удивляет, как много внимания вынуждены мы уделять контрольно-измерительной технике. Контрольно-измерительные приборы принимают от нас приказы и передают машине на понятном ей языке. На таких приборах следует сосредоточиться. Поясню подробнее. Рулевое управление корабля – устройство как устройство, оно принимает приказы рулевого и осуществляет их с мощностью, достаточной, чтобы повернуть руль огромного лайнера. Да и погрузочно-разгрузочные устройства в значительной своей части фактически осуществляют ту же функцию. Портовый грузчик, наматывая виток каната на лебедку, по существу, отдает приказ сравнительно слабым натяжением каната или же его ослаблением, а лебедка преобразует этот приказ в действие, но вкладывает большую мощность. Мне кажется, под той же рубрикой проходят и гирокомпасы. В принципе задача состоит в том, чтобы сравнительно неясные сигналы, исходящие от вращения Земли, преобразовать в ведение корабля по курсу. Это может делать штурман, глядя на катушку компаса. Но задавать курс кораблю можно и непосредственно, с помощью машины. До меня дошли слухи, что в этом направлении наши конкуренты добились успеха.
– Все это крайне поучительно, – сказал Олбрайт, – но мистер Джеймс несколько затянул вступительную часть. Он распространяется о философской подкладке контрольно-измерительной техники. А нам предстоит торговать компасами, рулями и погрузочно-разгрузочными устройствами. Потрудитесь спуститься на землю, мистер Джеймс.
– Я как будто высказываюсь по существу, – возразил я. – Мы торгуем гирокомпасами, рулевыми тягами и погрузочно-разгрузочными устройствами. У нас нет большой научно-исследовательской лаборатории, и дублирование работы, когда процесс изобретательства повторяется для каждого выпускаемого нами изделия, нам не по карману. Конструированием контрольно-измерительных приборов нужно заняться с размахом, руководствуясь генеральным планом, точно так же как телефонные компании с размахом занялись телефонными изобретениями. Ведь главное в том, что контрольно-измерительные приборы широко применяются не только в судостроении, и если судостроение претерпит кризис, мы без ломки переориентируемся на другую отрасль промышленности. Американские заводы можно оснастить контрольно-измерительными приборами в гораздо большем количестве, чем там имеется в настоящее время. Для этого надо будет немало потрудиться над разработкой таких приборов и подготовкой промышленности к их использованию. Не сразу придет эра контрольно-измерительной техники, но она непременно наступит. Кое-кто из нас даже удивится – до того скоро наступит. Может быть, я чрезмерно увлекся, но за одно я ручаюсь: когда начнется такая эра, контрольно-измерительные приборы очутятся в руках людей, которые давно о них думают и готовы их использовать. Например, на химическом заводе девять десятых рабочих служат не более чем передатчиками приказов, поступающих (от манометров и прочих измерителей) к клапанам, устройствам пуска и останова и пр. То есть работа людей заключается попросту в том, чтобы передавать приказы от одного прибора к другому. С такой работой справится и машина. Рано или поздно до этого додумаются, но когда именно – я пока не могу сказать. Идея, по-моему, чрезвычайно перспективная. Новые поиски следует вести в этом направлении.
– Не представляю, как может справиться с такой задачей рулевой двигатель корабля, – сказал Уильямс.
– Навряд ли мы пойдем этим путем, – ответил я. – Здесь требуется нечто гораздо более качественное и чувствительное. По правде говоря, инженеры радио и телефонии куда ближе подошли к требуемым устройствам, чем инженеры-энергетики. Мне кажется, тайну прогресса в данной области скрывают бурно развивающиеся электронные лампы. Впервые получили мы возможность снимать слабые сигналы и усиливать их до нужного уровня. И это осуществимо не только в одной узкой области техники: рано или поздно такие лампы станут неотъемлемыми частями всех контрольно-измерительных приборов. Вот отправная точка, откуда, мне кажется, надо исходить в нашей работе.
– Боюсь, слишком поздно мы вступаем в игру, – сказал Каммингс. – Радиовещательные и телефонные компании опутали всю эту сферу патентами. Наверное, получить лицензии нам не составит труда, но ведь и никому из желающих – тоже. Где гарантия, что, после того как мы вложим сюда прорву денег, какая-нибудь другая фирма не урвет всю прибыль и не оставит нас с носом?
– Об этом я думал, – ответил я. – По-моему, есть верный способ обезвредить такие фирмы. Здесь вступает в действие другая моя идея. К раздаче основных патентов на электронные лампы мы не поспели, но не опоздали еще к другому: мы можем прочно закрепиться в методах применения таких ламп в контрольно-измерительной технике. Системы управления ближайшего будущего рисуются мне примерно так. Допустим, есть какое-то устройство, например руль корабля, и надо передать к нему приказ рулевого. Я утверждаю, что проблема повышения мощностного уровня приказов, повышения, достаточного для воздействия на руль, сводится к усилителям и электромоторам современных конструкций. Что такое усилители, вам известно. Они принимают слабый сигнал и умножают его первоначальную мощность десятикратно, стократно или даже в миллион раз. Радиоинженерам они превосходно известны. Но при проектировании систем управления одними усилителями не обойтись. Мало передать рулевому двигателю приказы рулевого. Надо, кроме того, модифицировать эти приказы в соответствии с конструкцией двигателя, чтобы использовать их наиболее эффективно. А для этого нужна новая техника суммирования сообщений. Мы бы хотели суммировать наши сообщения на низком силовом уровне. В радиоаппаратуре это делается перед конечным повышением на антенну. Нам необходимо разработать технику целевого суммирования сообщений. Такая техника сыграет важнейшую роль в экономике заводов будущего. Возьмите, например, химический завод, о котором мы недавно упоминали. Там почти все рабочие заняты тем, что считывают показания манометров, термометров и т. п. и в зависимости от показаний поворачивают рукояти управления в соответствии с какой-то программой. Если известна желательная технологическая схема, то ее можно надеяться запрограммировать в самой системе управления. Это значит, что большую часть заводской работы будет выполнять машина да к тому же, наверное, дешевле и лучше. Я говорил о химических заводах, но ту же идею можно беспрепятственно внедрить на конвейерных линиях. Пусть даже качество продукции не улучшится, зато предприниматели высвободятся из-под давления профсоюзов. Я думаю, таким доводом их будет нетрудно подкупить. Знаю, все это – дело далекого будущего, но ведь именно к будущему, да притом не к ближайшему, мы и должны готовиться. Я бы не стал упоминать о журавле в небе, если бы не бесспорный успех, достигнутый в искусстве суммирования выходных сигналов способом, наилучшим для управления механизмами. Есть в Англии один человек, Седрик Вудбери; он наводняет техническую периодику отличными статьями по данной проблеме. Каждый может убедиться собственными глазами. Уверяю вас, Вудбери уже нашел многие ответы и стоит на верном пути к тому, чтобы найти все остальное.
– Ну, оседлал Джеймс своего любимого конька, – заметил Уильямс. – Последние десять лет Вудбери у него с языка не сходит. Давайте же выскажитесь и облегчите душу.
– Если мы приобретем право распоряжаться трудами Вудбери, – продолжал я, – то получим крупный козырь про запас. В людях понемногу пробуждается интерес к Вудбери, но пока что большая часть его работ пребывает в неизвестности. Я давно числю себя поклонником Вудбери, как справедливо заметил мистер Уильямс.
Привлек к нему внимание кое-кого из своих друзей, в частности мистера Уотмена. Ссылка на Вудбери мелькнула в одной статье Домингеца из Фэйрвью-колледжа. Эти двое занимаются проблемой вполне серьезно, но едва ли шагнули дальше самого смутного представления об истинных ее перспективах. Естественно, я не собираюсь трубить на всех углах об этой новой отрасли техники. Если ее возможности таковы, как я предполагаю, то пусть все останется между ними. Вряд ли нас кто-то обскачет. Труды Вудбери носят предельно абстрактный характер. Вы, мистер Уильямс, знаете, какой это вспыльчивый, эксцентричный человек. О большинстве представителей славной инженерской профессии он самого невысокого мнения. По-видимому, ему доставляет какое-то злорадное удовольствие не ставить точек ни над одним «и», поэтому его творения доступны лишь немногим. Я их читал и нашел их довольно-таки неудобочитаемыми, но в них есть все, стоит только хорошенько вчитаться. Если у кого-то хватит ума и инициативы воплотить в меди и стали его принципы оптимального конструирования, то этот «кто-то» опередит остальных на несколько лет. Воротилы английских верфей Вудбери терпеть не могут. Прямо-таки ощетиниваются при одном упоминании его имени. Особенную неприязнь питает к нему Кийс-Дартфорд. Я за это ни капельки не осуждаю старого морского волка. [№ 4, c. 3-я стр. обложки]
Кийс-Дартфорт со всеми своими парусами и мореходными познаниями восходит к началу века – не нынешнего, а минувшего. Вудбери это понимает и на каждом публичном сборище подпускает коммодору какую-нибудь шпильку.
– Нет у меня стопроцентной уверенности, что изобретения Вудбери столь ценны, как вы полагаете, – сказал Уильямс. – Однако я не впервые имею дело с вашими идеями. Не раз уже я слышал от вас предложения, которые казались мне бредовыми. При всем том они, как правило, окупаются. Будем пока исходить из того, что вы правы. Допустим, работы Вудбери именно таковы, как вы уверяете. Что мы предпримем? Каммингс, вы у нас эксперт-патентовед. Поможете нам в этом мероприятии?
– Звучит заманчиво, – признал Каммингс. – Учтите, я должен обдумать ту оценку перспектив, которую дает мистер Джеймс. Вы, я вижу, охотно исходите из его правоты. Ладно, буду исходить из того же. Джеймс, оказался ли ваш вспыльчивый друг настолько дальновидным, чтобы облечь свои идеи в ощутимую форму патентов? Нельзя же основывать будущность фирмы на химерах.
– Я как раз собирался затронуть этот вопрос, – ответил я. – Нет, не оказался. Никогда в жизни он не был дельцом и не держал в руках тысячи фунтов стерлингов. Удовлетворение он получает, трудясь над статьями и публикуя их, а также глядя, как корчатся другие, уличенные им в ошибках. Кое-что из своих основополагающих идей он опубликовал на рубеже столетий. Посвятил их народу, если вы к этому клоните.
– Именно к этому. Если Вудбери посвятил свои изобретения народу и нам не может передать права на них, то, по крайней мере, не может передать никакие права никому другому. Совершенно ясно, что Вудбери далеко не истощил жилы новых изобретений. Многое еще можно сделать в этом направлении, раз уж нам потенциальная ценность идеи известна, а другим – нет. Самое разумное – спокойно разрабатывать эту область, защитив патентами все мыслимые способы, какими можно практически осуществить идеи Вудбери. Тогда в дальнейшем руки у нас окажутся развязанными, а наши конкуренты шагу ступить не смогут, не наткнувшись на тот или иной принадлежащий нам патент.
– По-моему, верно, – сказал Уильямс. – Попробуем, Джеймс?
– Ни о чем лучше, как работать над идеями Вудбери, мечтать не приходится, – ответил я. – Признаться, я горю нетерпением выехать к нему. Вот чуть-чуть разберусь с бумагами на столе – и с радостью возьмусь за это поручение как за первоочередную свою обязанность.
– Этого я не могу позволить, – возразил Уильямс. – Уже не первый месяц вы фактически исполняете обязанности главного инженера. Осенью Андерсон уходит на покой. Как только он уйдет, я официально назначу вас главным инженером. Без вас я не могу обойтись. Нельзя ли перепоручить это дело кому-нибудь еще? Например, Уотмену?
– Я бы сам хотел попытать счастья, но если нельзя, то лучшей кандидатуры, чем Уотмен, не придумаешь. Уотмен, ты согласен?
Уотмен скромно усомнился в том, справится ли с поручением. Видно было, что желания взять на себя эту миссию у него хоть отбавляй. Каммингс колебался.
– Не торопитесь, – посоветовал он. – Если мы выправим патенты на имя Уотмена, то каждому станет ясно, что тут налицо закулисная игра. Другая фирма может докопаться до того, что принципиальные идеи патентов украдены у Вудбери. Она причинит нам массу хлопот в патентных спорах, а то и опередит нас. Я предпочел бы замести следы и никому не давать никаких зацепок.
– Да, лучше бы приобрести права у лиц менее подозрительных, – согласился Уильямс. – Хорошо бы привязать изобретения к постороннему имени. Тогда мы бы действительно опутали патентами всю отрасль, а от всех прочих оторвались настолько, что не оставили бы им никаких шансов. Здесь одно затруднение: к какому же постороннему имени?
Тут я опять увлекся коммерцией. Не стану скрывать, сюда примешивалась и затаенная злость.
– А если к Домингецу? С недавних пор он балуется где-то на стыках с этой отраслью – так, в порядке джентльменской забавы. Ничего серьезного, сами понимаете. С Домингецом я давно знаком и думаю, что нам удастся повесить на него изобретения. Я знаю склад его ума. Домингец тщеславен, поэтому никакого труда не составляет внушить ему, будто идеи исходят от него. Мы с Уотменом можем заняться конструкторским изучением проблемы, а попутно нянчиться с Домингецом. А потом оформим патенты на имя Домингеца. Мне кажется, у него можно будет их выкупить по весьма сходной цене.
– Слабовато, – сказал Уильямс. – Все равно люди заподозрят неладное, а след приведет к трудам Вудбери.
– По-моему, этого нетрудно избежать, – вставил я. – Давайте решимся на дерзкий ход. Вместо того чтобы стараться заполучить новые патенты по наинизшей цене, давайте предложим Домингецу головокружительную сумму и придадим всей затее бесхитростный, однозначный вид.
– В этом есть великий смысл, – сказал Уильямс. – Если мы решились заняться этим делом, то нельзя довольствоваться полумерами. Предложим ему не просто приличную цену: предложим неслыханную. Тогда наши конкуренты подумают, что дельцы из преуспевающей фирмы не стали бы платить такие деньги за пустяк, что изобретение, пожалуй, действительно чего-то стоит. Мы отпугнем всех конкурентов еще прежде чем начнется конкуренция.
– Смысла здесь еще больше, чем вы думаете, – подтвердил Каммингс. – В конце концов патентное право не исчерпывается одними только параграфами кодексов. Надо учитывать патентную экспертизу, да и судей тоже. Если у нас дойдет до тяжбы – а это более чем вероятно, я бы даже сказал, гарантировано, – то, когда станет известно, что мы предлагаем кругленькую сумму постороннему изобретателю, все проникнутся убеждением, что за эту сумму фирма получила равноценные [№ 5, c. 42] изобретения. У нас появится не только огромное преимущество в патентных спорах, но и возможность (я не ручаюсь, но почти уверен) запугать противную сторону, прежде чем она обратится в суд. А каждый месяц беспрепятственного нашего владения новыми изобретениями будет просто-напросто укреплять презумпцию, будто они действительно находятся в законном нашем владении. В спорных случаях суд принимает сторону фактического владельца.
– Это мне не нравится, – заявил Олбрайт. – Вы, по-моему, нагло попираете традицию фирмы – трезвое благоразумие. Против этого я употреблю все свое влияние.
– Я и сам еще не пришел к окончательному решению, – сказал Уильямс. – Меня все же надо убедить, что овчинка Вудбери стоит такой сложной выделки. Знаю, Джеймс утверждает, что стоит. В моих глазах его мнение имеет большой вес. В общем, если окажется, что изобретениями действительно стоит заняться, то заняться ими надо дерзко. Во всяком случае, прощупывая почву, мы ничем не рискуем. Прежде чем у нас появится возможность довести дело до конца, пройдет какое-то время. Мне кажется, Джеймс и Уотмен должны действовать, как если бы мы приняли положительное решение. Отказаться от этой затеи на каком-то промежуточном этапе будет еще не поздно до тех пор, пока деньги не перейдут из рук в руки; мы решительно ничего не теряем, кроме времени одного или двух наших служащих. За исключением присутствующих на совещании, ни одна живая душа знать ничего не должна о наших планах. Хотите высказаться, Паттерсон?
– Хотелось бы подробнее услышать об этом Домингеце, – сказал Паттерсон. – Что он за птица? Достаточно ли в нем силы и прочих качеств, обеспечивающих популярность, станет ли он привлекательной фигурой в глазах общественности? Бесцветная личность тут не пригодится. Если же этот человек согласится подыгрывать рекламе и сумеет себя подать, то окажется неоценимым залогом успеха фирмы. Джеймс, вы его знаете. Какой он в этом направлении?
Я рассказал Паттерсону о давнем своем знакомстве с Домингецом, о его романтическом пребывании в цирке, о детстве на ранчо среди необъезженных мустангов, о тем, какую лихость и даже театральность он на себя напускает. Рассказал также, как он женился на вдове Матьесона.
– Добро, – подытожил Паттерсон. – Есть за что уцепиться. Меня так и подмывает засучить рукава – такие открываются горизонты. Джеймс, пришлите-ка мне все материалы о Домингеце, какие только удастся собрать, а когда придет пора, мы уж за них возьмемся совместно.
– Отлично, – заключил Уильямс. – Насколько я понимаю, всем все ясно.
1920–1922
Через несколько дней после совещания Уильямс пригласил меня к себе в кабинет для личной беседы.
– Прежде чем говорить о делах, – сказал он, – я хотел бы обсудить с вами личный вопрос. Теперь, когда схлынула напряженность военных заказов, все мы можем подумать о себе и о личном счастье. Так вот, вам первому я решил поведать о своем. За годы совместной работы мы с мисс Сомерсет очень сблизились, и я попросил ее стать моей женой. Она оказалась настолько добра, что согласилась, невзирая на все мои недостатки.
Я смущенно пробормотал слова поздравлений и сердечно пожал Уильямсу руку.
– Хотел просить вас о двух одолжениях, – продолжал Уильямс. – Во-первых, будьте шафером у меня на свадьбе. Мы с вами превосходно сработались, к тому же вы – давний друг. Когда человек занимает такое положение, как я, вечно отдает приказы и держит подчиненных в узде, у него не так-то много близких друзей.
– Конечно, буду, – отвечал я. – Для меня это большая честь. А второе?
– Второе касается нашего медового месяца. Мы решили провести его за границей, но не знаем, куда именно податься. Вы же досконально изучили Европу, и в частности самые привлекательные ее уголки. Окажите нам услугу, составьте программу поездки.
Я согласился, пообещав приложить все старания.
– Хорошо, – сказал он. – Значит, здесь все а порядке. А теперь о деле. Хочу поговорить о вашем с Каммингсом плане. Олбрайт его не одобряет, но вы же Олбрайта знаете. Новые начинания ему не по душе, и в то же время он страшно боится отстать от жизни. Если я одобрю план слишком горячо, то Олбрайт будет гмыкать, покашливать, выдвигать возражения одно за другим, но в конце концов склонится на мою сторону. Если план окажется удачным и увенчается успехом, то мало-помалу Олбрайт позабудет все свои возражения. Через годик-другой начнет думать, будто сам породил этот замысел. Тогда в фирме «Уильямс и Олбрайт» все начинание станет неотъемлемой частью деловой политики. А. там уж пусть-ка кто-нибудь попробует против него возразить – Олбрайт живо отбреет наглеца!
В конечном итоге решение должен принять я. Но бесповоротное решение я не вижу возможности принять еще какое-то время. Предположим, мы прощупали Домингеца, и из этого ничего не вышло. Я охотно выложу плату за консультацию и даже, в разумных пределах, задаток. Пусть у нас останется возможность вовремя вступить в игру, если игра стоит свеч. Это ведь недорогое удовольствие.
Итак, предлагаю следующее. Потолкуйте с Домингецом и заинтересуйте его в нашей затее. На тот случай, если мы решим продолжить игру и предоставить все полномочия Домингецу, проследите, чтобы Уотмен не надулся. А я тем временем займусь финансовой стороной и выясню, пойдет ли нам Уолл-стрит навстречу, если мы решим активизироваться. Но помните, я на вас полагаюсь: не вовлекайте нас ни в какие мало-мальски важные обязательства, пока и поскольку я не даю особого распоряжения.
От Уильямса я вышел, осчастливленный его доверием, исполненный решимости не подкачать и оказаться достойным возложенной на меня ответственности. Я был уверен, что у такого человека, как Уильямс, справедливости и чуткости хватит на двоих.
Тем не менее, поскольку мне приходилось принять участие в интриге, которую в известной мере породило мое же предложение, на душе у меня скребли кошки. Я прекрасно знал, что Вудбери не очень-то позволяет, чтобы посторонние вмешивались в его дела или пытались распорядиться будущей судьбой его изобретений.
В общем-то я считал, что мы не вредить ему собираемся, а помогать. Давно уже он отсек от себя какие бы то ни было права собственности на свои изобретения. Более того, предоставь его самому себе – он наверняка будет продолжать в том же духе. Сам себе встает поперек пути, тогда как у него есть все основания притязать на прибыль и даже сравнительное благосостояние. Помочь ему можно только одним способом: пусть какой-то другой человек, более искушенный, более от мира сего, станет хранителем его идей, и предоставить автору заслуженные преимущества без личного авторского вмешательства, даже без участия.
Осуществись наш план, я не сомневался, что Уильямс вознаградил бы Вудбери щедро, куда щедрее, чем обязан был по закону. Такого принципа всегда придерживался Уильямс, имея дело с человеком, который не пытается ущемить его интересы и во всем, что касается собственных прав, простак простаком.
Однако, учитывая упрямство и прямолинейность Вудбери, я сознавал, что договориться с ним будет нелегко. Правда, я надеялся, что при содействии Уильямса мне (человеку, которого Вудбери называл своим другом) удастся как-нибудь уломать старика. Но все же это обстоятельство меня тревожило. Зато меня ничуть не тревожила проблема Домингеца. Я ведь раскусил его тщеславную, себялюбивую душу. Из памяти у меня еще не изгладилась последняя наша встреча во Флоренции. В конце-то концов, если говорить о материальных благах, то мой замысел ставит его в благоприятнейшее положение. Тонкости же чувств Домингеца в этических вопросах я не придавал излишнего значения. Не сомневаясь, что справлюсь с Домингецом, я бессердечно отмахивался от мысли о нежелательных последствиях моего вмешательства в его дела.
Куда сильнее беспокоила меня проблема Уотмена. Мы намеревались на сто процентов использовать его мозг, а самому ему предоставить мириться с второстепенным (в глазах общественности) положением. Прежде чем предпринимать что-либо, я собирался побеседовать с ним и выяснить, действительно ли наши планы ранят его так глубоко.
При первом же удобном случае я с ним встретился. Уотмен с поразительной готовностью согласился сотрудничать.
– Обо мне не думай, – сказал он. – Работать в области, имеющей немалые перспективы, да еще получать за это деньги – для меня огромное удовольствие. Фирма платит мне солидное жалованье и не спрашивает, получилось ли из моих стараний что-либо путное. Мне хорошо на моем месте, а не там, где каждое изобретение надо доводить до оптимума. Да и не хочу я делать ставку на одно-единственное изобретение. Меня никогда не интересовало, что думает о моей работе общественность, лишь бы поддерживали сослуживцы. Валяй, поступай, как считаешь нужным, обо мне забудь. Я верю Уильямсу и тебе верю. Не волнуйся.
Я поблагодарил Уотмена, и с души у меня свалился камень. Тогда я начал подготовлять нашу договоренность с Домингецом на случай осуществления наших планов. Возобновил с ним переписку, постаравшись сделать это по возможности естественнее и непринужденнее, чтобы не дать ему догадаться о затеваемой крупной игре и как-нибудь ненароком не вспугнуть.
Это оказалось несложно. Вскоре я получил от Диего приглашение приехать в Уайт-Пилларс. В одно прекрасное воскресенье я выехал туда на чашку чаю.
Я увидел, что Диего вполне освоился с положением сановного преподавателя и [№ 5, c. 43] владетельного джентльмена; во всех внешних атрибутах этого нового положения он проявлял крайнюю взыскательность.
Я разговорился с президентом Маннингом. Мне еще раньше говорили, что он рвется превратить Фэйрвыо-колледж в полноправный университет, и в частности открыть там новый политехнический факультет. Маннинг завел речь об инженерской подготовке Домингеца и о перспективах нового обучения. Я, естественно, всячески поощрял разговор, не скупясь на похвалы работам Домингеца. Ввернул я и насчет назревшей необходимости интенсифицировать подготовку инженерных кадров, по всей стране.
Здесь я действовал не так уж бескорыстно, учитывая, что всякое повышение акций Домингеца льет воду на нашу мельницу. К тому же я искренне верил, что как преподаватель технических дисциплин Домингец не так уж плох. Для того начинания, какое затевал Маннинг, трудно было сыскать лучшего.
После обеда мы перешли в гостиную с высоким потолком и створчатыми до полу окнами с восхитительным видом.
– Рассказал бы, что творится у «Уильямса и Олбрайта», – попросил Домингец. – Вы, наверное, завалены послевоенными заказами и восстанавливаете разоренное судоходство мира.
– Да, – сказал я, – если говорить о ближайшем будущем. Но знаешь ведь как главный инженер я обязан не только печься о проблемах завтрашнего дня, но и предугадывать проблемы послезавтрашние. Вот тут-то я прихожу в тупик. Временами я многое бы отдал, лишь бы поменяться с тобой местами, думать только о новостях науки и техники. А я ведаю притоком долларов. Откровенно говоря, это одна из причин, по которым я рад тебя видеть. Хочу набраться от тебя ума-разума. Где именно, по-твоему, произойдет очередной крупный переворот в технике и как бы к нему примазаться?
– Да, собственно, – ответил Домингец, – сфера моих интересов в настоящее время ограничена электронными лампами, но здесь я, пожалуй, пристрастен. А по-твоему, что сейчас ново?
– Месяца три или четыре назад в «Электрикл энджинир» мелькнула одна заметка, – сказал я. – Помнится, об электронных лампах в контрольно-измерительной технике. Ты не читал?
– Читал, – подхватил Домингец. – Вообще-то я собрался детально исследовать эту область, но временно отложил на будущее.
– Знаете, – вставила Селеста, – Диего ужасающе перегружен заказами радиопромышленности. Если не ошибаюсь, там приступают к массовому радиовещанию или что-то в этом роде. Представляете, как в романе «Взгляд назад»: сообщения будут передаваться с центральной станции, а подхватят их личные приемники на дому у каждого. Диего вначале не верил в коммерческий успех этой затеи, а я сразу поверила. Очевидно, мое мнение разделяют крупные электротехнические фирмы. Теперь Диего рад, что я уговорила его заняться этим делом. А вы что об этом думаете, Грегори?
– Согласен с вами, Селеста, – ответил я. – Радио стучится в нашу дверь. Лет через двадцать оно, может быть, станет ведущей отраслью промышленности. Однако оно несколько выходит за пределы моей компетенции. Гораздо больше интересует меня, Диего, твоя работа по управлению. По-моему, ты – зачинатель великой идеи. Она, как мне представляется, полностью соответствует нашему профилю. Твоя статья наверняка станет классическим трудом. Между прочим, ты, наверное, знаешь, что в Англии один инженер (некий Вудбери), по-видимому, пронюхал о твоих идеях. На него начинают обращать внимание специалисты. Мне кажется, ты не должен пускать это дело на самотек. По-настоящему надо приложить все усилия и защитить идею патентами, прежде чем к ней примажутся.
– Да-да, помню, видел я статьи Вудбери, – сказал Домингец. – По-моему, они весьма любопытны. У меня-то эти идеи давно зародились, еще в бытность мою на ранчо в Монтеррее. Знаешь, пока я объезжал коней, хватало времени обо всем поразмыслить. А ты и впрямь веришь в перспективность моей работы для практических целей? Я спрашиваю о ближайшем времени, потому что в будущем-то она, конечно, пригодится, но сейчас техника, скорее: всего, еще не достигла нужной- высоты.
– Разумеется, верю, – ответил я. – Вообще-то наша фирма серьезно подумывает о том, чтобы расширяться именно к этом направлении. В подмогу нам нужны самые светлые умы. Так или иначе я с тобой собирался об этом потолковать. Нам необходимо всестороннее исследование по управлению, и в частности по применению электронных ламп в управлении. Не возьмешься ли? Перед моим отъездом старина Уильямс уполномочил меня обговорить с тобой этот вопрос. Если возьмешься, можешь стать у нас постоянным консультантом. Работы Вудбери любопытны, но он ведь умалчивает о том, какие именно электронные, схемы намерен применить для воплощения своих идей. Беспрерывно упоминает о каких-то идеальных элементах, которым можно придавать любые желательные характеристики. Но мы-то вынуждены обходиться реально существующими катушками, конденсаторами, лампами, а они более или менее одинаковы, так что, попытавшись ими воспользоваться, мы не удовлетворим всем требованиям теории Вудбери. Да-да, знаю, Вудбери выдал две-три чисто конструкторские идеи, и, по его словам, схемы его работоспособны. Вполне возможно, но лучше бы кто-нибудь вплотную занялся этим вопросом и высказался со всей определенностью. В этом направлении у нас работают несколько толковых инженеров, но своими силами они, по-моему, не справятся, а нам желательно получить совет первоклассного специалиста. Мы были бы крайне рады, если бы ты занялся этим делом сам, но если не можешь, то не порекомендуешь, ли кого-нибудь другого?
– Да, приходят мне на ум две-три фамилии, – ответил Домингец. – Не исключено даже (хотя маловероятно), что я мог бы заняться и сам. Но ты ведь понимаешь, какой сейчас на меня спрос. Ничего не могу твердо обещать.
Домингеца позвали к телефону. Мы с Селестой воспользовались случаем переброситься несколькими словами.
– Грегори, – сказала Селеста, – ты оказываешь нам с Диего огромную услугу. При всей его кажущейся самоуверенности в действительной жизни он чересчур скромен, себе же во вред. Я ужасно боюсь, что здесь, в Уайт-Пилларс, он чувствует себя ущемленным. Я не хочу, чтобы он считал себя всего-навсего мужем богатой женщины. Если он достигнет положения, при котором деятельность инженера будет приносить ему удовлетворение, а гонорары за консультации будут покрывать его долю расходов по хозяйству, то ему, я уверена, станет легче… да и мне тоже. Какая заботливость с твоей стороны – предоставить ему такую возможность!
Я уехал, чрезвычайно довольный ощутимыми результатами наших переговоров, но несколько смущенный необходимостью обманывать хорошую женщину.
Однако и перед Уильямсом у меня были обязательства, поэтому приходилось выбросить Селесту из головы. А Уильямса я мог с чистой совестью заверить, что в мозгу Домингеца семена сделки упали на благодатную почву, и посеяны они так мастерски, что постепенно Домингец начнет считать себя инициатором замысла и припишет себе немалую изворотливость.
Через несколько дней меня вызвали к Уильямсу.
– Меня очень соблазняют ваши- идеи насчет работ Вудбери, – сказал он. – Если мы ими займемся, то, мне думается, ваш с Каммингсом подход самым правильный. Правда, я еще не совсем уверен, можно ли реализовать его работы в обозримом будущем и стоит ли нам заняться ими безотлагательно. Однако мы ведь не сию минуту обязаны принять решение. На тот случай, если мы захотим продолжить игру, я прощупал Уолл-стрит. По-моему, мы можем рассчитывать, за нужную сумму. Кстати, а у вас как дела с Домингецом?
– Недурно, – ответил я и- дал краткий отчет о беседе- в Уайт-Пилларс.
– Вы все проделали как надо, – заметил Уильямс. – В Домингеце возбудили интерес, а нас не связали мало-мальски существенными обязательствами. Слов нет, вы дьявольски хитры и осторожны. Всегда находите выход в щекотливой ситуации, быть может, не совсем так, как справился бы с ней я, но зато так, как я хотел бы уметь. Знаю, в бизнесе приходится залезать в чужой карман, и вас это мучит до колик, но получается это у вас мастерски. Ну-с, а: каков же следующий шаг?
– Их два, – сказал я. – Во-первых, будем отсчитывать часы, покуда Домингец не созреет. Идеи-то я в него заронил, но пусть пройдет время, пусть он с ними сроднится и поверит, будто они исходят от него самого. Чересчур поторапливать его не стоит, иначе мы себя выдадим, а уж как он тогда все воспримет – я не берусь предугадать.
Во-вторых, с Уотменом я уже виделся и говорил; он не станет дуться, если мы преподнесем пенки Домингецу. Кстати, мне кажется, Уотмену следует основательно прибавить жалованье в виде компенсации за то, что мы превращаем его в козла отпущения. Прибавки он так или иначе заслуживает, а мы должны готовиться к тому, что его идеи будут скармливаться Домингецу.
Если затея пройдет, то надо серьезно подумать о том, что же делать с Вудбери. С легкостью он к этому все равно не отнесется, но совершившийся факт воспримет лучше, чем нашу попытку слишком рано посвятить, его в суть дела. Тогда-то он заподозрит неладное. А так можно рассчитывать, что ему не хватит житейской мудрости разобраться в нашей роли. Лучше всего, если он сочтет нас чересчур наивными, не понимающими ценности его работ. Он не должен знать, что мы инициаторы заговора и прекрасно ведаем, что творим.
Чем больше я занимаюсь этой историей, тем меньше мне нравится, как мы обходимся с Вудбери. При всей своей запальчивости он же действительно великий человек. Я общался с ним на протяжении многих лет, пока нас обоих не завалили военными заказами. Пусть мое занятие ему не очень-то нравится, но ко мне лично он относится очень хорошо, насколько вообще способен [№ 5, c. 44] на хорошее отношение. Я знаю, по настоящему-то мы действуем в его интересах, но страшно подумать, что бы он сказал, если бы проник в наши замыслы.
– Значит, вам свойственны порывы мягкосердечия, – заявил Уильямс. – С трудом верится, что вы соглашались пойти на эту затею. Иногда я вас перестаю понимать. До чего же вы сентиментальны!
– Пусть так, – ответил я, – но на меня рассчитывайте твердо: я доведу дело до конца. По-моему, вы и сами были бы рады, если бы требования бизнеса меньше уязвляли хрупкую совесть.
– Пожалуй, вы правы, – сказал Уильямс, – хотя, признаться, наибольшее сочувствие вызывает во мне не Вудбери. Его никто не неволил изображать Диогена и торчать в своей бочке. Навряд ли целесообразно изливать на него чрезмерную жалость. Он получил удовлетворение, сделав работу, а это для него главное. Не может же человек вечно лежать камнем преткновения на пути изобретательства. Нет уж, кого мне жаль, так это Уотмена. Он хорошо работает. Отнимать у него право на признание заслуг – несправедливость. Безусловно, я сделаю все от меня зависящее, чтобы он получил хоть какую-то компенсацию. Но наши инженеры его любят. Когда правда всплывет наружу, молодежь примет его ближе к сердцу, чем сам Уотмен. Понятно, в наши дни инженер не может изобретать в одиночку и надеяться, что счастливая случайность принесет ему богатство. Когда я был молод, все мы надеялись, что в один прекрасный день наживем состояние. А пока, на время, не возражали подтянуть потуже ремешок. Нынче в популярных журналах печатают рассказики об успехе, чтобы у американского юнца сложилось впечатление, будто все осталось по-прежнему, а ведь на самом-то деле все переменилось. Может быть, оно и к лучшему. Многое можно сказать о преимуществах солидного оклада и постоянной службы перед условной долей в блуждающем огоньке.
– По-моему, в главном наши взгляды сходятся, – сказал я. – По крайней мере, в том, что мы делаем. Пожалуй, расходимся мы в оправданиях перед самими собой. Ладно, вы, насколько я понял, одобряете нынешние мои планы, хотя бы в принципе.
Несколько месяцев я благоразумно сторонился и Уотмена, и Домингеца. Но все же сложа руки я не сидел, а держался в курсе того, как варится зелье. Не проявляя чрезмерной заинтересованности, я вел переписку с Домингецом; инициативу предоставлял ему, сам же довольствовался изъявлениями сочувственного внимания и вялого любопытства. Часто случалось мне говорить с Уотменом и выслушивать его восторженные сообщения о ходе работы. Бывали у него м унылые периоды, когда все шло не так гладко, как хотелось бы. В беседах с ним я время от времени ронял то или иное замечание, доказывал, что желаю ему всяческих успехов, но особого нетерпения не испытываю.
К этому времени Уотмен начал получать отличные результаты. Прошло еще полгода, и работа Домингеца приблизилась к стадии опубликования. Я заколебался: дождаться выхода ее в свет, а затем уж изложить Домингецу свое предложение или сделать это немедля? В общем, остановился я на золотой середине: выждать достаточно долго, чтобы Домингец подумал, будто его опус уже привлек к себе внимание, но недостаточно долго для того, чтобы идею выхватили у нас из-под носа другие концерны.
Я всячески старался хорошо информировать Уотмена о ходе работы Домингеца, а еще пуще – передавать Домингецу идеи Уотмена, причем в настолько завуалированной форме, что всю их значимость Домингец осознавал далеко не сразу, а спустя изрядное время, и тогда уж верил, будто додумался до них самостоятельно. Домингеца надо было держать чуточку позади Уотмена, но по возможности с наименьшим разрывом, чтобы Домингец не выпускал приманки из виду. Все это напоминало мне охоту с гончими. Электронный заяц маячил впереди, на таком расстоянии, что пес волей-неволей развивал максимальную скорость.
Разумеется, я был страшно загружен. Я ведь не просто ждал дальнейших событий – на мне лежали и другие обязанности. Все мое время поглощали испытания нового миноносца «Гиппопотам». Этот корабль был оснащен рулевым управлением «Уильямс и -Олбрайт», а также новой системой управления машинным залом с мостика. Оборудование было всесторонне испытано в цехах, но ведь в последнюю минуту вечно всплывают какие-то недочеты. С души сваливается камень, когда узнаешь, что на судне оборудование работало так же безотказно, как на испытательном стенде.
Новое оборудование всегда несет новые привычки людям, которые им управляют. Сладить с ним по первому разу не легче, чем привыкнуть к новой паре очков. Два-три тактичных намека могут предотвратить уйму хлопот и на испытаниях, и в дальнейшей эксплуатации.
Как обычно, работа доставляла мне удовольствие. Представилась возможность изгнать червоточинку из мыслей. На время я отмахнулся от тревожившей меня моральной дилеммы.
Наконец, испытания успешно закончились, и военно-морское ведомство приняло новое рулевое управление. На различных маневрах, предусмотренных программой испытаний, новое оборудование показало хорошие результаты. У меня вновь появилось время подумать о своем маленьком заговоре.
Между тем от Домингеца уже поступали письма, из коих явствовало, что он добился неких результатов. Уотмен засучил рукава по-настоящему. Близился этап, когда бумажная работа продвинется настолько, что позволит и даже потребует провести первые испытания в лабораторных условиях. Для Уотмена здесь не было никакой проблемы: именно для этого его нанимали, именно для этого оборудовали ему лабораторию.
А вот Фэйрвью-колледж только-только переставал быть колыбелью либеральных искусств и начинал придавать серьезное значение технике. Тамошнее оборудование годилось для постановки традиционных опытов, но не для чрезвычайно тонкого сочетания электронных устройств с мощными механизмами, нужного для того, чтобы практикой выверить новые принципы.
Провести такое испытание на впечатляющем оборудовании необходимо было по нескольким причинам. По-настоящему в задачи Домингеца входило не только перейти от бумагомарания к работе с заводскими станками, но и подчеркнуть трудность такого перехода, а впоследствии убедить инженеров, что для этого пришлось потратить немало выдумки и упорства.
Мы с Уильямсом отправились к ректору Маннингу. Приветствуя нас, Маннинг встал из-за стола.
– А-а, входите, входите, – прогудел он. – Весьма рад, что вы порой выкраиваете время навестить нас, несмотря на свои разносторонние интересы. При виде вас к нам каждый раз доносится дуновение свежего ветерка. Мы, представители академических кругов, чересчур склонны отрешаться от активного мира бизнеса и индустрии, занимаясь в башне слоновой кости. Ну-с, я слыхал, что ваш давний друг профессор Домингец показывал вам нашу скромную лабораторию. Как она вам?
– Об этом мы и приехали потолковать, – сказал Уильямс. – Вообще-то она нам очень понравилась. Домингец ведет в ней огромную работу, просто немыслимую. Оборудование там по-своему немудрое. Откровенно говоря, по сравнению с тем, что я видел в первый свой приезд в Фэйрвью, там все настолько улучшилось, что я ее с трудом узнал. Но просто хорошей лаборатории мне недостаточно. Теперь, когда вы удостоили меня доверием, сделав своим человеком в колледже, я хочу, чтобы здесь была лучшая в мире школа инженеров с наилучшим оборудованием. Нынче все развивается так бурно, что приборы в старинных стеклянных шкафах физического факультета представляют лишь музейный интерес. Особенно в том, что касается новой отрасли, так называемой электроники. Оборудование старше трех-четырех лет попросту непригодно к использованию.
Ваша лаборатория двигателей существует уже изрядный срок. Знаю, там есть два-три очень симпатичных экспоната, среди них – пневмодвигатель Эриксона со сжиганием горючего. Я успел забыть, что на свете есть пневмодвигатели Эриксона. Для поколения, располагающего бензиновыми моторами и дизелями, они наверняка не представляют особого интереса. Мне кажется, вашей лаборатории следует делать упор на двигатели внутреннего сгорания, А у вас из электромоторов предусмотрены для учебных целей лишь громоздкие, неуклюжие махины, причем почти все ведут происхождение со времен Филадельфийской юбилейной выставки.
Домингец говорит, что его частенько подмывает начисто вымести метлой всю лабораторию. Механизмы позанятнее – продать Чикагскому музею промышленности, а остальное – первому встречному старьевщику. На вырученные деньги он мог бы основать настоящую лабораторию электротехники.
– Понимаю вашу точку зрения, – сказал Маннннг. – Полностью с вами согласен. Но откуда же взять деньги? После войны цены на оборудование сильно подскочили. У нас распределен каждый цент, полученный or последней кампании по сбору пожертвований, и даже каждый цент, ожидаемый от следующей кампании. Рад бы всей душой, но… А хорошо бы найти какого-нибудь неизвестного благотворителя.
– Я бы с удовольствием, – отозвался Уильямс, – но, знаете, после войны и у нас стало туговато с деньгами. К сожалению, я не могу выложить мало-мальски значительную сумму из своего кармана. Если угодно, я выясню отношения с теми из выпускников Фэйрвью, кто живет в Нью-Йорке, а тогда, возможно, мне удастся сделать большее и даже, пожалуй, собрать деньги среди других моих деловых знакомых. [№ 5, c. 45]
1922–1928
Наш план влек за собой и другие меры. Я хотел поддерживать контакт с Вудбери – и потому, что питал к нему уважение и почтение, и потому, что добивался для него материальных выгод. Я хотел заручиться его согласием (или хотя бы молчаливым согласием), сделав его выгодоприобретателем.
Я отправил Вудбери несколько писем с просьбой растолковать мне кое-какие спорные положения. Вот одно из его ответных писем:
Дорогой Джеймс!
Ознакомился с Вашими замечаниями по статье № 5 серии «Очерки контрольно-измерительной техники». Вы, очевидно, уловили суть. Статья действительно требует кое-каких пояснений, но все же Вы, по-моему, слишком придирчивы в вопросах математической строгости. В конце концов, формулы я применяю для конкретной цели, а не просто ради мистической шахматной партии с Создателем и не для того, чтобы похвастать умением манипулировать.
В пору расцвета большой математики таких вещей не делали. Читая математические труды, я возвращаюсь к старым классикам вроде Эйлера и Лапласа. У них я нахожу факты, а не математическую софистику. Одно из двух: либо какая-то вещь существует, либо ее не существует, а коли так – не все ли равно, каким образом вы это установили?
В наши дни преподаватели Оксфорда и Кембриджа не занимаются математикой, а играют в математику. Для них она – нечто вроде крикета: гораздо важнее красиво забить шар, чем опрокинуть ворота. Мне крикет не по карману, да и воспитание у меня иное. Моя любимая игра – умственный футбол. Чтобы забить гол, надо бороться, пуская в ход все силы до последней капли.
Из всего изложенного Вы поймете, что у меня есть кое-какие счеты с джентльменами – представителями академических кругов. Между прочим, если они и вправду джентльмены, а игра сводится к крикету, то я, безусловно, Игрок. Я знаю, что в силах провести в ворота не один математический шар, но мое умение, по-видимому, не удовлетворяет мелочным требованиям университетских деятелей.
Не понимаю, для чего могут понадобиться взрослому человеку оси координат, простые числа или многомерные пространства. Все это сойдет для математического отрочества, пока в человеке остается еще что-то детское и ему нужны детские забавы.
Когда человек достигает умственной зрелости, все это надо пустить побоку. Но в наших университетах полным-полно престарелых юнцов.
Рад слышать, что Вы по-прежнему стремитесь к практическому использованию моих идей в технике.
Я знаю, как много у Вас дел и, привык к долгим перерывам между Вашими письмами. Вы – один из немногих, чьи письма доставляют мне неподдельное удовольствие. Вы не принадлежите к миру театральных декораций и шаблонных мнений, в котором вертятся почти все мои знакомые. Иногда (далеко не всегда) Вы как будто действительно понимаете, что я делаю. Поэтому непременно напишите мне в не слишком отдаленном будущем.
Всей душой Ваш
Седрик Вудбери.
Я порядком-таки попотел над ответом, поскольку так или иначе надо было отвечать. Мне не хотелось излишне подчеркивать интерес к практической возможности внедрить идеи Вудбери в технику. Правда, если учесть промышленную конкуренцию, в руках Вудбери такое внедрение свелось бы к нулю. Его интерес к собственным идеям носил не стяжательский, а интеллектуальный характер. Сплошь и рядом в нем проявлялась органическая неспособность ухватиться за благоприятный случай или хотя бы заметить такой случай. Но все же не исключалось, что Вудбери кому-нибудь покажет мое письмо. Из письма этот «кто-нибудь» извлечет кое-что для себя, а если и нет, то раструбит о подозрительной заинтересованности американцев в работе Вудбери. Эта новость может дойти до ушей потенциальных конкурентов.
Не годится и чисто дружеское письмо: нельзя затушевывать интерес к новым работам Вудбери. При всей своей отрешенности от мирской суеты он достаточно сообразителен, чтобы распознать мирской эгоизм в других. Когда наши патенты будут оформлены, в расчетливом отсутствии упоминаний о трудах по контрольно-измерительной технике Вудбери почует неладное.
Самое мудрое – сохранить полную естественность и написать так, словно события уже начинают развиваться по-новому, но движутся еще медленно, и наш интерес к ним лишь случаен, мимолетен. Впоследствии, когда все просочится наружу, мы успеем убедить Вудбери, что все произошло само собой и непредвиденно. Пусть он даже рассердится из-за того, что, хоть его идея внезапно пригодилась, большая часть славы и денег досталась другим, – гнев его не будет непримиримым.
В конце концов, я состряпал нижеследующее письмо:
Дорогой Вудбери!
К своему ужасу, я обнаружил, что с того дня, как я получил от Вас последнюю весточку, минуло шесть месяцев, а я все еще не откликнулся. Ваши письма приносят мне огромное удовольствие, и не только благодаря новизне и свежести авторской точки зрения, но и потому, что их приятно читать просто как хорошую прозу. Я часто задумываюсь над тем, отчего Вы пишете только друзьям да в научные журналы: мне кажется, многое из того, что Вы могли бы сказать, представляет интерес и для широкой публики.
Учтите: для человека, считающего себя не Джентльменом, а Игроком, Вы, право же, чересчур привередливы. Обливаете заурядных людей презрением, хотя сами же себя охотно причисляете к этому биологическому виду.
А впрочем, поправка: Вы не причисляете себя к роду человеческому; скорее, хотите прослыть непревзойденным Игроком, которого увлекает только безукоризненная игра, да и то только, если следить за нею с удобного наблюдательного пункта – с игрового Олимпа.
Я раб той текучки, которую Вы так упорно не признаете. Повседневным обязанностям инженера в промышленности присущи срочность и неотложность, от них не отмахнешься. Со службы прихожу смертельно усталый. Отобедав в клубе и сыграв робберок с давними приятелями (которые, слава богу, никогда не заговаривают со мной о технике), я валюсь спать в полном изнеможении. А на другой день повторяется то же самое, только наслаиваются новые проблемы. Они сыплются на меня из кабинетов и лабораторий. Множество вываливается ко мне на стол вместе с утренней почтой.
Я не могу позволить себе роскошь игнорировать все то, что Вам неинтересно, поскольку должен выполнять свой долг по отношению к тем, у кого зарабатывают на хлеб с маслом – да-да, еще и с толстенным слоем повидла. Если я наживу врагов, то они станут не только моими врагами, но и врагами фирмы.
Но я крайне бесцеремонно докучаю Вам своими личными заботами. Вам предпочтительнее узнать, что нового в технике. Вы, бесспорно, не хуже меня осведомлены, что вот-вот радио с капитанских мостиков и крупнейших станций, принадлежащих международным концернам связи, протянет щупальца-антенны в жилища каждого [№ 6, c. 42] из нас. Страшно подумать: через несколько лет внешний мир лавиной вторгнется в нашу частную жизнь.
Так вот, все это стало возможно благодаря электронной лампе. Навряд ли кто-либо, кроме узких специалистов, хотя бы наполовину осознал, на что способна электронная лампа. Она, я думаю, буквально во всех жизненных сферах высвободит нас из-под тиранического гнета энергетики. Ведь не только в радиоделе полезно посылать слабые сигналы и усиливать их так, чтобы прием был возможен по другую сторону океана. Можно ведь усиливать сигналы, которые будут управлять электродвигателями и прочими приводами. Это придаст контрольно-измерительной технике небывалый размах.
Вот тут-то и выйдут на сцену Ваши труды. Ваши идеи напрашиваются на непосредственное использование, в радиопромышленности, и, посещая технические лаборатории, я каждый раз замечаю новый прилив интереса к Вашим статьям.
Многие энергетические фирмы берутся за производство домашних радиоприемников как за побочную статью дохода. Не исключено, что благодаря таким фирмам Ваши идеи приобретут популярность, протиснувшись через черный ход нового увлечения – радио.
Наш сотрудник Уотмен в свободное время увлекается радио (таких людей называют, по-моему, радиолюбителями). Он уже смекает, что к чему. На днях расспрашивал меня о Ваших работах. И вопросы-то ставил вполне осмысленные. В настоящее время он бродит ощупью где-то на подступах к Вашим идеям, но человек он способный. Доходят до меня слухи (самые смутные), что проблемами контрольно-измерительной техники заинтересовался профессор Домингец из университета Фэйрвью. Толковый малый, но лентяй. Для обоих только-только забрезжило то, что Вы исчерпывающе проанализировали лет пятнадцать или двадцать назад.
А вдруг со временем эти ребята до чего-нибудь додумаются? Невзирая на свою оторванность от людских дел, Вы не можете не почувствовать удовлетворения при мысли, что вся инженерская профессия начинает ценить проделанный Вами труд.
Между прочим, летом мой босс Уильямс отправится в Европу, – соединит отпуск с деловой поездкой. Он хотел бы изъявить Вам свое почтение. Вы, наверное, помните, что сравнительно недавно он побывал в Англии с мимолетным визитом и что я тогда снабдил его рекомендательным письмом к Вам.
Искренне Ваш
Грегори Джеймс.
Закладка фундамента под наш замысел – овладеть контрольно-измерительной индустрией – была не такой задачей, которая разрешается в один миг. Важнее всего было не создать впечатление, будто мы спешим и занимаемся какими-то махинациями, – это набросило бы тень подозрения на всю операцию. Необходимость эксплуатации изобретений по контрольно-измерительной технике вовсе не вытекала из тогдашних потребностей бизнеса. Нет, она была страховкой на будущее, которое, как твердо верили мы с Уильямсом, непременно настанет, но точную дату ни он, ни я, ни кто-либо третий не могли указать даже приблизительно. Оживление в промышленности, сменившее непродолжительный послевоенный спад, могло с минуты на минуту прекратиться, что ввергло бы нас в финансовые трудности.
Итак, всевозможные этапы наших переговоров затянулись на несколько лет. Как главный инженер фирмы, я занимался множеством дел, не имевших касательства к операции. Лишь теперь, оглядываясь на прошлое и видя неизмеримые последствия этой операции, я понимаю выдающееся ее значение.
На фоне разнообразных личных и служебных переживаний того периода постоянным лейтмотивом звучала работа с Уотменом и Домингецом. Я должен был возвращаться к ней вновь и вновь, пока не почувствую, что план наш окончательно подготовлен и пора либо вплотную браться за его осуществление, либо отказаться от него.
Первым дозрел Уотмен. Он и раньше, по собственной инициативе, стал восторженным почитателем идей Вудбери. Теперь же в нем выявились уникальные способности: он умел не только внедрять базовые идеи в повседневную конструкторскую практику, но и обладал чисто интеллектуальным даром самостоятельно формулировать такие идеи. В скором времени он отослал предварительную заметку в «Вестник национальной академии наук» и превратился в самостоятельного исследователя.
Гораздо сложнее обстояло с Домингецом. Но и о нем не стоило слишком уж тревожиться. Пусть он не так результативен, как Уотмен, – зато его нетрудно вести на поводу. Я лез из кожи вон, обращая внимание Домингеца на новые достижения Уотмена. Врожденная леность Диего уступала непреодолимому напору состязательского азарта.
Между тем Уильямс тщательно прозондировал финансовую ситуацию. Теперь он тоже мог решать: продолжать игру или же идти на попятный. Решения он до сих пор не принял. Небывалый бум не прекращался, и все кругом уверовали, будто мы вступаем в новую, вековечную эру финансового процветания.
Уильямса нисколько не вводила в заблуждение лихорадочная обстановка. Его суждения о том, чем же все это кончится, отличались редкостным здравомыслием.
– Я разговаривал с представителями деловых кругов, – сказал он мне однажды. – У меня складывается впечатление, что контрольно-измерительная техника, действительно, вот-вот взлетит на небывалую высоту. Меня беспокоит, как бы не вклинился кто-нибудь из наших конкурентов, прежде чем мы в ней окончательно закрепились. Но одно-то мне ясно: торжество контрольно-измерительной техники отнюдь не стоит у нас на пороге. Пожалуй, вы правы: на некоторые из основных принципов этой отрасли Вудбери успел наложить лапу. Все ее принципы навряд ли сейчас известны. И уж, бесспорно, мы не располагаем нужными приборами. Возможно, в конечном итоге нам это все окупится, но вот не знаю, когда же удастся подвести этот итог. Я верю в торжество контрольно-измерительной техники как отрасли промышленности. Будь у меня возможность доверять прочности финансовой конъюнктуры, я бы довел наш план до конца. Но когда я взвешиваю все «за» и «против», меня многое отпугивает: долгое ожидание, необходимость вложить большие деньги и невозможность сразу же их вернуть. Я подыскиваю хотя бы один-единственный удачный подряд, который принес бы нам немедленную отдачу взамен вложений в контрольно-измерительную технику. Заключить бы один, только один, – и я пошел бы ва-банк. Вообще-то, имея такой задел, самое бы время приступить к операции. Деньги так и просятся, чтобы их вложили в дело. Если кризис не разразится в ближайшие несколько месяцев, мы могли бы заплатить Домингецу и раскрутить колесо. Подождите немного, – заключил Уильямс, – и я скажу последнее слово: продолжаем мы наш план или забываем о нем. Есть у меня на примете совершенно определенный заказ, но не стоит возлагать на него чрезмерные надежды.
Я был несколько разочарован, хоть ничего иного и не ожидал. В ту шаткую пору я и сам не питал особого оптимизма. Несколько недель я прожил в ожидании, что с минуты на минуту получу распоряжение завершить операцию.
И вот Уильямс вызвал меня к себе в кабинет.
– Вы, наверное, думаете, что я предложу вам закрыть тему «Вудбери и его идеи», – сказал он. – Еще несколько дней назад я так и намерен был поступить. Но с тех пор одно событие в корне изменило всю ситуацию. До сих пор, как известно, крупнейшим нашим заказчиком был военно-морской департамент. Мы почти не заключали контрактов с представителями армий – ни нашей, ни зарубежных. Но вот недавно одно правительство запросило меня относительно приборов управления зенитными орудиями. Иностранцы стремятся улучшить показатели зенитной артиллерии. Я никогда и не воображал, будто в минувшей войне зенитки чем-то отличились, но и не думал, что они покрыли себя таким позором. Не будет преувеличением сказать, что, если бы в небе пролетала стая амбаров, то зенитка не сбила бы ни одного. И уж совершенно точно другое: если бы в небе амбары попадались с такой же частотой, как в деревне, то, чтобы поразить хоть один, пришлось бы истратить много тонн снарядов. Я уж не говорю о том, что цель передвигается в небе быстрее самой быстрой птицы. В настоящее время зенитным огнем удастся разве только не допустить, чтобы вражеский самолет совершил посадку прямехонько в ствол орудия. Не удивительно, что военные рвут и мечут!
– Да я и сам об этом размышлял, – отозвался я. – Скорости самолетов растут из года в год, и проблема становится все острее. На сегодняшний день скорость снарядов немного выше четырех тысяч футов в секунду, а самолеты развивают порядка ста миль в час, то есть примерно 150 футов в секунду. Пока разрыв значителен, здесь еще можно что-то предпринять. Но, предположим, самолеты начнут летать вдесятеро быстрее, в скорость снарядов останется неизменной. Тогда скорость летательных аппаратов будет соизмерима со скоростью зенитных снарядов. К тому же самолеты маневрируют в пространстве, тогда как снаряды связаны траекторией, заданной при залпе. Значит, зенитным снарядом можно будет сбить самолет только в одном случае: если в воздухе ненароком произойдет столкновение снаряда с самолетом.
– Я тоже так думаю, – подхватил Уильямс, – но до тех пор много воды утечет. А пока – проблема стоит совсем иначе, хоть тоже остро. Ведь артиллеристам до сих пор приходится прибегать к услугам командно-дальномерного поста (КДП), или его полевого аналога. Они определяют дистанцию до цели и с помощью дальномеров устанавливают прицел. Потом еще надо обработать полученные данные с помощью таблиц. По ним вычисляют угол наводки и т.д. Приходится производить всевозможные математические выкладки; это делается карандашом на бумаге, в то и с циркулем, угольником и транспортиром. Если огонь ведется по кораблю или вражеской колонне войск, то квалифицированный офицер-артиллерист установит прицел, [№ 6, c. 43] прежде чем цель отодвинется на чрезмерно большое расстояние. Правда, и тут артиллерист должен учесть перелеты и недолеты, иначе он не накроет цели. Применительно же к зенитному огню все это превращается в бред. Прежде чем на бумаге будут получены первые приближенные прикидки дистанции, самолет очутится совсем над другим городом.
– Знаю, о чем вы теперь заговорите, – сказал я. – Операции должны передаваться от дальномера к снаряду с максимальной быстротой, выкладки на бумаге исключаются. На лафете орудия нужно смонтировать вычислительное устройство. Наводчик следит за самолетом с помощью прицельных приспособлений, а орудие автоматически принимает положение, необходимое для залпа.
– Вы все правильно поняли, – подтвердил Уильямс. – Этой-то проблемой контрольно-измерительной техники мы должны заняться безотлагательно, а не на той неделе или, тем паче, через две недели. Она уже реальна. Случайно мне стало известно, что по меньшей мере двое из давних наших конкурентов разрабатывают данную проблему и намереваются подать иностранным заказчикам заявку на этот заказ. На днях из корпорации «Марин дивайсис» к нам перешел один сотрудник. Он-то и проболтался. Я слыхал, что русские торгуются со стариком Сандерсом из этой корпорации – не сошлись в каких-то мелочах. Вокруг заказов на зенитную артиллерию начинается мышиная возня. Пожалуй, трудновато будет добиться разрешения на сотрудничество с иностранцами, но уж это я возьму на себя.
– В таком заказе специалистам по электронике и карты в руки, – сказал я, – так же как новым радио- и телефонным компаниям. Виделся я недавно с одним приятелем из «Радиодеталей». Обычно его хлебом не корми – дай потолковать на технические темы. А тут, только я упомянул о зенитках, как он скорчил постную мину. Если хочешь сохранить что-то в тайне – не замыкайся в себе чересчур демонстративно, да к тому же ни с того ни с сего. Нимало не удивлюсь, когда за границу будет подана еще одна заявка на заказ, но из другого источника.
– Бесспорно, за усовершенствование зенитной артиллерии там берутся с размахом, – сказал Уильямс. – Они только не решили пока, кто же выполнит для них эту работу. Иначе вся область в два счета оказалась бы опутанной патентами, и нам бы это стало известно.
– Мы не намерены делить эту область с целой сворой оголтелых конкурентов, – продолжал он. – Мы не просто проникнем в эту область, а проделаем это на такую широкую ногу, что все правительства будут считать меня мистером Зенитная Артиллерия, ни больше ни меньше. А там мы оттесним всех прочих, и заказов по контрольно-измерительной технике хватит нам до тех пор, пока ее значения не осознают и другие отрасли промышленности. Я вынужден взять обратно все свои слова насчет того, будто сегодня работы Вудбери лишены практической ценности. Но хотелось бы уточнить и с вами. Джеймс, как, по-вашему, возможно ли немедленное практическое использование изобретений Вудбери в приборах управления зенитным огнем?
– Безусловно, – ответил я. – Почти все, что улучшает управление в целом, улучшит и управление зенитным огнем. Если мы бросим наших инженеров на эту проблему, то с самого же начала придется прибегнуть к трудам Вудбери.
– Хорошо, – сказал Уильямс. – Я прикинул, на какую сумму клиенты могли бы заключить контракт по зенитной артиллерии. Здесь пахнет десятками миллионов. Если удастся отпугнуть конкурентов, мы сорвем здоровенный куш. Приступаем к решающей стадии операции «Домингец». Мне понравилась выдумка Каммингса – захватить всю отрасль и выдать Домингецу кругленькую сумму за его «права», а потом трахнуть по голове патентоведов, работающих на наших конкурентов. Но мне кажется, мы можем достигнуть еще большего. При головокружительной цене нашей покупки у всех сложится впечатление, будто КИТ и Уильямс – одно и то же, будто мы до того неотделимы от этой отрасли, что отдавать заказ в чьи-то иные руки, кроме наших, – несуразно.
Вы, наверное, думали отделаться от Домингеца пятьюдесятью тысячами долларов. Пусть даже сотней тысяч. Я и сам так думал, но теперь номер не проходит. Надо ошеломить заказчиков, да и наших конкурентов тоже. Мы не смеем предлагать Домингецу меньше полумиллиона долларов. В сущности, наше предложение должно быть совершенно неслыханным и беспрецедентным. Говорят, подобные предложения бывали и прежде: у нас полумиллионом никого не удивишь. Я уполномочиваю вас предложить Домингецу три четверти миллиона долларов, как только настанет благоприятный момент. Когда, по-вашему, это произойдет?
– Уже настал. Я сознательно тормозил события, чтобы они не развивались чересчур стремительно и не заставляли нас принимать решение, пока мы к этому не готовы. Вчера мне звонил Домингец, просил приехать и обсудить с ним его результаты. Он не убежден в серьезности нашего интереса и хочет выяснить с нами отношения.
– Прекрасно, – сказал Уильямс, – дело, я думаю, надо уладить без проволочек. Велю Каммингсу составить нужные документы. Это займет денька два. А вы тем временем поводите Домингеца за нос, условьтесь с ним на ту неделю. Прежде чем вы поедете в Уайт-Пилларс, я проверю, в порядке ли документы.
С Домингецом я договорился по телефону. Над документами пришлось изрядно попотеть. Каммингс изловчился оформить сделку как приобретение будущих патентных прав, совершаемое до выдачи автору самих патентов. Приобретателем значилась не сама фирма «Уильямс и Олбрайт», а некий филиал, специально образованный на этот экстраординарный случай.
Каммингс был чрезвычайно доволен: при условиях, на каких Уильямс распорядился заключать договор, не обязательно было ждать выдачи конкретных патентов. Никому не в диковинку, что изобретатель-одиночка оформляет патенты так, что они не охраняют его прав со всей мыслимой полнотой. Патенты еще менее удовлетворительны, когда доходит до охраны прав фирмы, приобретающей права у изобретателя. Поэтому все гораздо легче, если фирма, намеревающаяся эксплуатировать патент, может с самого начала – при его составлении – сказать свое веское слово.
Итак, Домингеца, согласно контракту, приглашали консультантом в нашу фирму, сроком на пять лет. Он со своей стороны за единовременный гонорар 750000 долларов обязался передавать в собственность корпорации «Изобретения» (филиалу фирмы «Уильямс и Олбрайт») все патенты, какие только когда-либо получит, по цене 1 (один) доллар за штуку. Далее, он гарантировал, что один из этих патентов будет посвящен принципам конструирования, а также узлам и деталям, которые позволят создать контрольно-измерительную аппаратуру для общего класса проблем КИТ, обозначенных ниже мелким шрифтом. Ниже в различных, частично совпадающих пунктах перечислялись устройства, пригодные для управления зенитными орудиями.
Содержание этого условия контракта, как и других его условий помельче, отличалось одновременно и широтой, и определенностью. Условия гребли широко, ибо охватывали чуть ли не все мыслимые патенты, которые будут выданы или могут быть выданы Домингецу, если они хоть как-то полезны для контрольно-измерительной аппаратуры. Условия формулировались определенно, ибо детально очерчивали обширную сферу применения контрольно-измерительной аппаратуры, для каковой сферы Домингец подрядился ввести ценные и полезные усовершенствования.
В контракте недвусмысленно оговаривались обязательства Домингеца оплачивать из собственного кармана все судебные издержки по искам, которые будет вчинять фирма или которые могут быть возбуждены против нее. На словах же предстояло объяснить Домингецу, что это условие – просто-напросто формальность, оно лишь выгораживает фирму и самого Домингеца, нечего тут пугаться. На самом деле, как растолковал мне Уильямс, это условие введено для подстраховки, фирма не позволит Домингецу истратить на тяжбы ни цента из его личных средств.
Я кропотливо проанализировал условия контракта. Во многом они были стандартны, однако формулировались так, будто Домингец ответственно гарантирует самобытность, ценность и даже коммерческую рентабельность своих изобретений. Это поставит его в затруднительное положение, если он не будет выполнять договорных обязательств. Вздумай Домингец заартачиться на том или ином этапе – в контракте хватало скрытых шипов, которые в два счета заставят его подчиниться решениям фирмы в вопросах стратегии и тактики.
Контракт дал мне обильную пищу для размышлений. Ведь я с самого начала знал, что операция, которую я допускаю и даже проталкиваю, не лишена элементов подлости. Однако подлость присуща образу жизни, который я веду вот уже многие годы, поэтому я подавил в себе приступ малодушия. Ново для меня было лишь одно: теперь я понял, что деяние, участником и даже в какой-то степени инициатором которого я являюсь, возымеет долгие неизгладимые последствия для всех действующих лиц.
Взялся за гуж – не говори, что не дюж! Много лет подряд я ем хлеб Уильямса и Олбрайта. Всякий честный человек платит за свой хлеб, отстаивая интересы хозяев и беспрекословно повинуясь их приказам. Тем не менее, насколько счастливее был бы я, если бы Домингецу назначили не такую зверскую, чудовищную цену!
Прими Домингец сумму поменьше – я бы всю вину свалил на слабость своего друга и его боязнь отказаться. Но отвергнуть три четверти миллиона долларов!.. Может, аскет вроде Вудбери так бы и поступил, но ждать этого от нормального человека не приходится.
1928–1931
Умствования ни к чему путному не приводят. Нужно двигаться вперед. Я созвонился с Домингецом, подтвердил, что собираюсь в Уайт-Пилларс. Он с женой встретили меня на редкость тепло. [№ 6, c. 44]
– Ну, Домингец, – сказал я, – как успехи на поприще контрольно-измерительной техники?
– Да помаленьку, – ответил Домингец. – Очень благодарен тебе за то, что показывал мне отчеты Уотмена. Поруководишь им еще годик-другой – глядишь, он чего-то и достигнет. Конечно, истинную-то суть проблемы он проглядел. Приборы его, если и будут функционировать, то примитивно, а я-то могу предложить нечто гораздо лучшее. Я, видишь ли, по-настоящему докопался до базовых принципов. Я, по-моему, говорил тебе, что недели три назад смонтировал первый свой прибор управления. Он работал вполне приемлемо. Тогда у меня еще руки не доходили до финальных испытаний, то есть не была выяснена точность аппаратуры.
– И какая же точность?– спросил я.
– Отличная, – ответил Домингец. – Я чуточку подрегулировал мелочи и окончательно все отладил. Теперь аппаратура ни на йоту не отступает от заданных параметров. Я прикинул погрешность. Даже и она не выходит из ожидаемых пределов. Надо еще многое доработать, но отныне все пойдет как по маслу.
– Хотелось бы заглянуть в протоколы испытаний, – сказал я. – Они у тебя под рукой?
– Вот, пожалуйста, – ответил Домингец. – По-моему, останешься доволен. Отсюда, во всяком случае, ясно, как надо браться за общие проблемы КИТ.
– Работа приносит Диего радость, – заметила Селеста. – Раньше мне ни разу не доводилось видеть, чтобы он вкладывал столько усилий в одну конструкцию. И он страшно доволен результатами. Прямо как девушка после первого бала. Дождаться не мог твоего приезда.
– А кстати, – вставил Домингец, – не видать бы мне таких результатов как своих ушей, если бы не новое оборудование лаборатории. Твоему мистеру Уильямсу надо отдать должное, он раздобыл великолепную аппаратуру. Теперь я могу работать в лаборатории, оборудованной по последнему слову науки. Теперь мне начинает казаться, что мы обгоним престижные университеты. Давай проглядим данные испытаний.
Я досконально изучил протоколы. Приятно было, что подтвердилась моя догадка: Диего умеет пользоваться подсказкой и даже шагает чуть-чуть дальше подсказанного.
– Превосходно. – Я вернул Диего папку. – Все ясно. Наконец-то в игре «КИТ» мы действительно начинаем выигрывать. Вообще-то вокруг твоей работы у нас в фирме поднялся ажиотаж. Уотмен показал Уильямсу твое последнее письмо. Заявил, что ты, очевидно, преодолел самые страшные трудности. А у Уильямса уже давненько с языка не сходят новейшие теории управления. Видимо, их-то ему и недостает, чтобы ухватить толстенную пачку зенитных контрактов. На днях он допытывал меня о тебе. Я сказал, что фирме нужны твои идеи, без них она с места не сдвинется. А еще больше нужна широта твоего мировоззрения. Уильямс хотел бы заручиться твоими услугами. Предлагает выгодные условия. Даже, можно сказать, исключительно выгодные и щедрые.
– Приятно слышать, – откликнулся Домингец. – «Уильямс и Олбрайт» – фирма солидная. Я бы гордился связью с ней. Однако изобретение у меня не пустячное. Оно заслуживает высокой цены. Овчинка, знаешь ли, стоит выделки. Условия и должны быть щедрыми.
– Убедись-ка своими глазами, – предложил я. – Я ведь привез контракт. От имени фирмы его уже подписал Уильямс. Прочти и подумай, нельзя ли оформить его без дальнейших проволочек.
– Не подгоняй меня, – воспротивился Домингец. – Кота в мешке не покупают. Дай мне сначала прочесть контракт.
Сняв скрепку со сколотых бумаг, он начал продираться сквозь непроходимую чащу юридической терминологии. Буркнул:
– Ничего не скажешь, ваши крючкотворы нигде не оставили ни сучка, ни задоринки. Можно подумать, речь идет о полумиллионной сделке, а не о тривиальном договоре с внештатным консультантом. Придется семь раз отмерить, прежде чем связываться с твоими друзьями правоведами. Кое-какие пункты, мне кажется, ко многому обязывают.
– Да это же общепринятые фразы, – возразил я. – Ты же знаешь, какие педанты эти юристы. Норовят предусмотреть уйму непредвиденных обстоятельств, которые практически никогда не возникают.
Домингец перевернул первую страницу. В глаза ему бросилась строчка: «на сумму 750000 (семьсот пятьдесят тысяч) долларов». Он не поверил глазам. Перечитал заново. Да, черным по белому: «750000 долларов». Он окликнул жену:
– Селеста, поди-ка сюда, да поживее. Я хочу тебе кое-что показать.
Селеста торопливо подошла к нему и, склонившись, через его плечо взглянула сквозь лорнетку.
– Ох, Диего! – воскликнула она. – Какое чудо! Просто не верится! Грегори, как нам тебя благодарить? Сегодня у нас знаменательный день.
– Да, Грегори, – сказал Диего, – это потрясающе, но для меня абсолютно непонятно. КИТ – отрасль перспективная, но семьсот пятьдесят тысяч!.. Фью-у, дай мне время опомниться.
– Сумма кругленькая, – сказал я, – но ты, по-моему, со свойственной тебе скромностью недооцениваешь важность своих изобретений. Мы стоим на пороге новой эры КИТ. Фирма «Уильямс и Олбрайт» хочет закрепиться в бельэтаже новой эры. А помочь ей в этом можешь только ты.
– Не хочешь же ты сказать, что больше никто не разрабатывает проблем КИТ? – удивился Домингец. – Статьи Вудбери циркулируют уже лет пятнадцать.
– Да, но ты – единственный, кто применил их на практике. Не нужно умалять собственные заслуги. Вудбери – великий ученый, но ты – великий инженер.
– Конечно, он великий инженер, – подхватила Селеста.
– Может, оно и так, – сказал Домингец. – Значит, я должен стоять на страже своих интересов. Откуда мне известно, что свои изобретения я должен отдать именно в руки фирмы «Уильямс и Олбрайт»? Нет уж, утро вечера мудренее, не буду ничего решать второпях.
– Мистер Уильямс особо проинструктировал меня, велев предупредить, что предложение это серьезное, но горящее, – сказал я. – Завтра нам предстоит подписывать крупный международный контракт. Если ты поступишь к нам на службу и передашь свои идеи, то мы можем взять на себя обязательства по тому контракту. Если же твои идеи уходят к конкурентам, даже если есть хоть отдаленная возможность, что они пойдут в конкурирующую фирму, то нам лучше и не соваться. Мы от всего откажемся. Таким образом, сегодня наше предложение действует, но завтра теряет силу.
– Если мое изобретение так хорошо, как ты расписываешь, – сказал Домингец, – то от покупателей отбоя не будет. По-моему, лучше выждать и прощупать рынок.
– Навряд ли ты дождешься лучшего предложения, – возразил я. – Точнее, почти наверняка не дождешься. Как только в конкуренцию включатся несколько разных фирм, одну из них непременно осенит удачная идея – сделать одного из своих служащих подставным лицом и оформить твои изобретения на его имя. Без денег Уильямса и Олбрайта ты не отспоришь своих прав, и с чем же тогда останешься? Настоятельно рекомендую тебе не артачиться.
– Три четверти миллиона – это три четверти миллиона, – проговорил Домингец, – но все же мне здесь многое не нравится. Все же контракт, по-моему, связывает меня по рукам и ногам. Жаль, я толком не понимаю, на что иду. Да и не совсем я в глубине души спокоен насчет бедняги Вудбери. А ты как думаешь, Селеста?
– Я с тобой согласна, Диего. Мне бы тоже хотелось хорошенько все обдумать. Я в полной растерянности. Предложение до того головокружительное, что я утратила чувство меры. Но решение, видимо, надо принять не откладывая. Нельзя же безнаказанно швыряться такими деньгами. Откажешься от них – потом всю жизнь будешь себя терзать, да и меня истерзаешь. Ни тебе, ни мне этого не выдержать.
Я очень хорошо тебя знаю, Диего, – продолжала она, – и знаю, что ты примешь это предложение. Если тебе для душевного равновесия надо капельку поупираться перед тем, как поставить подпись, – поломайся приличия ради. Но только учти, сейчас середина дня, а в пять нотариальная контора закрывается. Давай покончим с формальностями.
– Сдаюсь, – сказал Диего. – Великий человек не должен упускать благоприятный случай. Должен распознавать улыбку фортуны.
– Ты должен знать, – прибавил я, – что тебе в руки плывет не только крупная сумма, но и возможность творить добро. Весь мир нуждается в твоих изобретениях по КИТ. Он благословит человека, который так приумножит мощь человечества. Вспомни, кем стали в глазах американского народа Эдисон и Стейнмец: прославленными героями! Твое имя будет на устах у каждого американского юноши, если он стремится стать инженером. Твой пример будет его вдохновлять. Ты не просто вправе воспользоваться возможностями, которыми устилает твой путь этот контракт, – ты обязан это сделать.
– Пожалуй, ты меня убедил. Давай сюда бумаги.
Подписанный контракт я привез Уильямсу. После этого все завертелось с такой неимоверной быстротой, что даже я, стреляный воробей, был поражен.
Не теряя времени попусту, Каммингс засучил рукава. Подставная фирма, которой предстояло сделаться номинальным приобретателем прав Домингеца, была напрочь лишена индивидуальности и нуждалась в броском названии. Каммингс постарался – окрестил ее «Уильямс контролс».
У Паттерсона вдвое прибавилось работы: он развернул пропагандистскую кампанию, славословя КИТ и держа «Уильямс контролс» под лучом славы, на виду у всех потенциальных заказчиков. В семье Домингеца он стал желанным гостем. Вовсю рекламировал цирковую карьеру Домингеца и великолепные поместья Мэтьесонов. Диего, не ломаясь, охотно помогал создавать вокруг себя рекламную шумиху.
Паттерсон на целые часы подряд запирался со мной у меня в кабинете, словно [№ 6, c. 45] клещами вытягивая из меня сведения о том, какие особенности новых работ по КИТ всего более импонируют идеалам молодых американцев. Мы надеялись вызвать всеобщее восхищение прозорливостью «Уильямс контролс», закрепившейся на командной высоте в новой отрасли.
Паттерсон наводнял финансовые и коммерческие журналы статьями о фирме «Уильямс и Олбрайт». Из пены этой пропаганды родилась новая мифология. Домингец фигурировал в ней как великий герой американской культуры и американского народа, изобретатель милостью божией. Паттерсон восторженно распространялся о романтическом прошлом Уильямса и Олбрайта.
Мне было по-настоящему жаль Уотмена, которого, как я считал, провели за нос, особенно если принять во внимание масштабы операции.
– Хочу посвятить тебя в новое положение вещей, связанных с Домингецом, – сказал я ему. – Тебе будет здорово трудно с этим примириться. Однако если ты все продумаешь, то поймешь, что другого выхода у нас не было. Мы решили приобрести новую работу Домингеца по проблемам КИТ, выложив за нее ощутимую сумму. Цена вот-вот будет объявлена в газетах – сильнейший пропагандистский ход нашей фирмы. Завтра утром ты ее все равно узнаешь. Фирма рассталась с тремя четвертями миллиона долларов. Мы собрались произвести фурор таким количеством нулей. Ошеломив общественное мнение, мы объявим покупателям, что поставили КИТ на широкую ногу. Тогда мы надолго заполучим отрасль в свое безраздельное владение и вытесним конкурентов.
– Понимаю, – сказал Уотмен. – Сейчас мне это нравится меньше, чем при первой нашей беседе. Достанься деньги Вудбери, я бы не возражал. У него-то идеи действительно новые. Пусть он даже толком их не охранял, – я бы с радостью увидел, как ему воздано должное. С точки зрения этики, деньги принадлежат ему, безотносительно к правовой точке зрения. Но Домингец!.. Я просматривал его отчеты, по мере того как ты их мне передавал. Мне не попалась там ни одна идея, которой мы с тобой не обговаривали задолго до составления отчета. Добро бы мы с ним действовали наперегонки. Но ведь фактически он не просто сдублировал мою работу – он ее испохабил. Не схвати ты его вовремя за руку, он бы безнадежно запутался по меньшей мере в пяти пунктах. Почему ты не меня превратил в крючок, к которому подвешиваются идеи Вудбери? Эх, я не про три четверти миллиона, ничего подобного. Пятидесяти тысяч долларов мне бы за глаза хватило. Может, поворчал бы я, требуя недоданных десяти тысяч, но ведь я же понимаю, что нельзя схватить луну с неба. Ты гарантировал мне постоянную службу. Согласен, это гораздо лучше, чем те же или еще большие деньги, выигранные в лотерею. Не о деньгах мысль меня свербит. Вот я проделал хорошую, добросовестную работу, хоть ее и не сравнить с открытиями Вудбери. А теперь я вынужден любоваться тем, как и деньги, и слава льются из спесивого осла Домингеца. Меня мутит от его самодовольной рожи.
– На твоем месте я бы реагировал точно так же, – ответил я. – Долгое время я подумывал, не уговорить ли Уильямса, чтоб выкупил это изобретение у тебя. Но ничего бы из этого не вышло. Нам нужно во что бы то ни стало впечатлить русских, иначе мы не добьемся зенитного контракта. Конструктор ты первоклассный, но ты – конструктор для конструкторов. Допускаю, в конструкторских кругах тебя считают восходящей звездой. Но ведь не в конструкторских кругах принимаются решения на высшем уровне. Такие решения выносят важные шишки. Для представительства им нужен кто-нибудь такой же, как они. То есть человек, наделенный всеми теми качествами, которые ты так презираешь в Домингеце. Меня эти качества тоже не умиляют, но таковы факты. Фирма «Уильямс и Олбрайт» извлекает прибыль из фактов. И еще одно: ты – служащий фирмы. Если изобретения Вудбери будут оформлены на твое имя, это покажется подозрительным. Наши конкуренты не поверят, а когда они, не поверив, обратятся в суд, судьи тоже не поверят. Это недопустимо. Вот мы и покупаем изобретения по КИТ у человека, не имеющего никакого касательства к фирме. Формально он с нами ничем не связан. Я принял меры, чтобы его связь с нами до покупки изобретений невозможно было проследить. Свои три четверти миллиона он получает по контракту, к которому не придерешься: он выдержит любые дознания. Мистер Джон-Средний-Гражданин и мистер Судья-Брюки-в-Полоску воспримут эту сделку в буквальном смысле. Если трезвый, практичный человек вроде Уильямса выкладывает за изобретение три четверти миллиона долларов, значит, изобретение ценное и стоит по меньшей мере два миллиона. Ты, Уотмен, должен помнить: будущее фирмы «Уильямс и Олбрайт» – это и твое будущее. Рано или поздно, когда фирма вырвется в высшую категорию, вместе с фирмой выбьешься в высшую категорию и ты. Ты у Уильямса первый на очереди. Ты ведь знаешь, он слывет прижимистым. Но я бы не ввязался в эпопею с Домингецом, не выговорив тебе значительного вознаграждения за моральный ущерб. Уильямса пришлось-таки уламывать, но не слишком долго. В конце концов, он согласился удвоить тебе жалованье.
– Ладно, – сказал Уотмен. – Смириться с этим я могу, но не жди от меня восторгов. Впрочем, ценю откровенность, с какой ты посвятил меня в подоплеку всей ситуации. Но меня по-прежнему беспокоят два момента. Первый – Вудбери. Как с ним намерены поступить? Ведь его ты уязвляешь в самое сердце.
– Он так пренебрегал своими правами, что ему уже нечего нам продать, – сказал я. – Но все равно, мы предложим ему солидные деньги, пусть охраняет те права, которые, возможно, еще остались. Мы с Уильямсом горячо на этом настаиваем. Мы согласны, с Вудбери обошлись непорядочно, раздув шумиху вокруг Домингеца. Но иначе нельзя было поступить. Над нами всегда висела бы опасность того, что какая-то конкурирующая фирма обнаружит: настоящий изобретатель – Вудбери. В руках толкового адвоката его претензии стоили бы нам немалых денег. Навряд ли кому бы то ни было удалось бы погубить нас, орудуя этими претензиями. Но нас вполне могли бы вынудить к компромиссу. Нам пришлось бы выдать кому-то двусторонние лицензии. А КИТ – чересчур лакомая отрасль, чтобы упускать хотя бы крохи.
– Хорошо, – сказал Уотмен. – Считаю, что с Вудбери все улажено. Еще больше волнует меня другой вопрос. На своей работе я не нажил состояния, но и ничего не прогадал. Поначалу большинство инженерно-технических сотрудников нашей фирмы не будет знать о нашей договоренности. Но все равно, кто-нибудь да прознает. Да и остальные довольно скоро окажутся в курсе. Начнутся обиды.
– Не исключено, – согласился я. – Придется нам какое-то время потерпеть возмущение молодежи. Ничего не попишешь. Однако в конце концов зенитные контракты поднимут нашу фирму на недосягаемую высоту, положение наше укрепится, и нам станет легче удерживать молодежь.
Я видел, что меня захлестывает уйма проблем. Операция оказалась значительнее и бесповоротнее, чем я ожидал. В пруд брошен камень. Долго еще круги будут расходиться по воде.
Я все поторапливал Паттерсона. Но нельзя было больше откладывать и личную мою задачу – умаслить Вудбери. Письмо, которое я ему отправил, стоило мне изрядных усилий мысли. Я составил пять или шесть черновиков и все изорвал. Наконец, остановился на таком варианте:
Дорогой Вудбери!
Давненько Вам не писал, но меня так закружили новые события, что только сегодня, впервые за много месяцев, у меня появилась возможность перевести дух и обсудить с Вами нынешнее положение вещей.
Вы ведь знаете, я всегда разделял с Вами веру в великую будущность КИТ. Я высоко ценю Ваши основополагающие вклады в эту отрасль. Я давно сожалею о том, что преждевременность появления и основополагающий характер Ваших работ по теории контроля и измерения не позволяют Вам пожать материальные плоды этих работ.
Откровенно говоря, чем дольше я об этом думаю, тем больше убеждаюсь, что Вам никакими силами не удалось бы оградить свои права. Допустим, Вы могли бы запатентовать кое-какие из ранних своих изобретений. Это было бы нелегко. Ведь в то время не существовало ни отрасли техники, ни информированных и разбирающихся людей, к которым Вы могли бы обратиться. Патентование вовлекло бы Вас в непосильные расходы, выражающиеся не только в фунтах, шиллингах и пенсах, но и – что гораздо важнее – во времени и нервах. Оно неизбежно отвлекло бы Вас от активного покорения фронтиров науки, то есть от подлинного Вашего призвания. А это стало бы катастрофой для Вас; для нас обоих.
Предположим, Вы все же решились бы избрать такой путь и принести все необходимые жертвы. Не сомневаюсь, Вы получили бы юридически полноценный патент. Но «юридически полноценный» не означает «пригодный к продаже» или тем более «обладающий высокой коммерческой ценностью», как ни глубоко содержание патента.
Ценность патента зависит от множества формально-юридических приемов, от знания материального права и правовой терминологии. Этими приемами владеют лишь адвокаты да бизнесмены. Получить компетентный юридический совет по принципиально новой отрасли практически невозможно. Я уж не говорю о том, что хороший юридический совет обходится недешево.
Кроме того, патент гарантирует монополию лишь на ограниченный срок. При нормальном раскладе многие из Ваших прав сейчас уже истекли бы или, во всяком случае, истекали бы. Такова неизбежная расплата за то, что опережаешь свой век. [№ 6, c. 46]
Вы – никоим образом не единственный, кого касается проблема Ваших изобретательских прав. Контрольно-измерительной индустрии предстоит небывалый бум. Некоторые отдаленные проблемы КИТ достигли стадии актуального практического значения. В частности, я имею в виду управление зенитными орудиями. Всем военным специалистам становится ясно, что нынешнее зенитное орудие не обеспечивает защиты от нападения с воздуха. Командно-дальномерный пункт и математическое оснащение артиллериста слишком медлительны и беспомощны, чтобы справиться с быстро передвигающейся мишенью. Решение этой проблемы – в контрольно-измерительной аппаратуре, осуществляющей все промежуточные операции между дальномером и наводкой орудия. Здесь первостепенное практическое значение приобретают Ваши идеи. Их судорожно нащупывают артиллерийские ведомства всех стран.
Данная сфера просто не может ждать. Фирме «Уильямс и Олбрайт» представился удобный случай влезть в нее. Нам бы очень хотелось приобрести у Вас права, которые Вам бы это позволили. Мы с радостью выплатили бы за них хорошие деньги. К несчастью, на сегодняшний день у Вас, насколько мне известно, нет никаких законных прав.
Итак, мы очутились перед дилеммой. Воздержись мы от овладения отраслью в угоду этическому педантизму – Вам от этого никакой пользы. Мы – всего лишь одна из нескольких фирм, борющихся за заказы на аппаратуру управления зенитками. Займемся мы данной отраслью или нет – такого случая наши конкуренты не упустят. Нужды или даже возможности выкупить у Вас право на владение отраслью у них не больше, чем у нас. Колебания, нерешительность с нашей стороны не пошли бы Вам впрок.
Не располагая возможностью заполучить именно от Вас права, которыми мы хотели владеть, мы поневоле приняли меры к тому, чтобы приобрести эти права на стороне. Один из наших сотрудников, Уотмен, – автор неплохих работ по данной теме. Если они Вам еще не попадались, на всякий случай высылаю экземпляры последних его отчетов. С другой стороны, мы скупили кое-какие изобретения профессора Домингеца из университета Фэйрвью. Нам пришлось выложить за них целое состояние. Мы настолько высоко ценим отрасль, которой Вы положили начало, что хотим закрепить за собой каждую ниточку, ведущую в ее направлении.
Я как нельзя лучше сознаю, что истинный толчок новейшим работам по контролю и управлению дали Ваши идеи, хотя ближайшее время конструкторы будут приписывать честь открытия не Вам, а другим людям, чьи труды вторичны, но более осязаемы. Весьма сожалею, что мы лишены возможности полностью выдать денежное вознаграждение тому, перед кем несем всю полноту моральных обязательств. Но как ни велики эти обязательства, они не носят правового характера. Сама сущность наша как коммерческой фирмы мешает нам оплачивать моральные обязательства, пока и поскольку они не отражают правовых отношений. Как только дело доходит до интересов наших акционеров, закон начинает печься о них с великим усердием.
За те права, которыми, возможно, Вы обладаете в КИТ, мы готовы предложить Вам известную сумму; надеюсь. Вы сочтете ее приемлемой. Прилагаю контракт, чтобы Вы поставили свою подпись. Советую, прежде чем подписывать, повидаться с адвокатом. Будь моя воля, Вам предложили бы сумму покрупнее. Но все же, как мне кажется, пожизненная рента 2000 фунтов стерлингов в год – тоже неплохо. Надеюсь, она позволит Вам жить, ни в чем не нуждаясь.
Я переговорил с Уильямсом – руководителем нашей фирмы. Он разделяет со мной радость по поводу того, что нам выпал случай воздать должное истинному отцу теории контроля и управления.
Надеюсь, дела вскоре приведут меня в Англию. Могу ли я иметь честь навестить Вас?
Искренне Ваш
Грегори Джеймс.
Ответ пришел месяц спустя; почерк старика был неразборчив, содержание же письма отличалось дотошностью.
Дорогой Джеймс!
Как явствует из обратного адреса, я больше не проживаю в Лондоне. Недавно в Борнемуте скончался один мой дальний родственник – мелкий предприниматель. Дела свои он оставил в крайне запутанном состоянии. После выплаты долгов уцелел лишь маленький коттедж в малоприятном окраинном районе. Поскольку я не связан ни постоянной службой, ни активной деятельностью, для меня все города одинаковы. Продать коттедж не удалось. Извлечь из наследства хоть какое-то преимущество я мог только одним способом: поселившись в этом коттедже.
Содержание Вашего письма очень меня заинтересовало. Я был бы изумлен, не осведоми меня «Дэйли мэйл» о переговорах, ведущихся Вашей фирмой. В этой газете я вычитал, что ваша неистощимая американская инициатива произвела очередной пресловутый переворот в промышленности, из серии тех переворотов, которые мы привыкли ассоциировать с вашей страной. По-видимому, в лице некоего профессора Домингеца вы обрели Великого Изобретателя и за три четверти миллиона долларов купили у него некие права, относящиеся к сфере КИТ.
Я потрясен суперкачеством трудов профессора Домингеца, коль скоро это качество заставило Вас предложить [№ 7, c. 39] такую колоссальную сумму. Те статьи Домннгеца, которые попадались мне в научной периодике, свидетельствуют о том, что он, пожалуй, разбирается в проблемах контроля и управления, хоть и ограниченно, и ни о чем более.
В сущности, мне не совсем ясно, почему, желая вознаградить талант. Вы предприняли столь дальние поиски. У Вас под боком – прямо-таки в центре Вашей фирмы – есть мистер Уотмен. В этом молодом человеке наблюдаются зачатки глубокого владения предметом.
Я далек от понимания подоплеки вашей новой политики, равно как и того, какие причины толкнули Вас на столь эффектный, можно даже сказать – мелодраматический шаг. Я ознакомился с патентными заявками Домингеца. Я не специалист в жаргоне патентных формул и их пунктов, который так любят юристы, – возможно, из профессиональной неприязни ко всему двусмысленному. Может, и есть в тех пунктах нечто потайное, от меня ускользнувшее. Однако в той части документации, которая доступна моему ограниченному разуму непосвященного, не содержится ни единой мысли, которая не была бы давно уже ясна мне и (абсолютно уверен) мистеру Уотмену тоже.
Право же, большинство деталей в работе Домингеца мог бы успешно домыслить любой мало-мальски толковый новичок в технике. Третьестепенные мелочи электронных схем изложены с чрезмерным многословием, казалось бы, не нужным ни одному смышленному человеку, если только он усвоил первостепенные принципы контроля и измерения, перечисленные в моих статьях пятнадцатилетней давности. Что касается самих принципов, то нет никаких свидетельств того, что профессор Домингец действительно их понимает.
Все это – Ваше дело. Вы, наверное, осведомлены лучше меня. А теперь поговорим о том, что меня касается. Решено, насколько я понимаю, с княжеского застолья, где почетным гостем пирует мистер Домингец, и мне бросить косточку.
У меня нет оснований жаловаться на предложенную сумму. Она превосходит все ожидания и позволяет мне доживать остаток дней в довольстве, которого я до сих пор не изведал.
Но здесь надо принять во внимание один мелкий вопрос – вопрос чести. Идеи нового изобретения я опознал как свои. Возможно, самый подходящий для них глашатай – мистер Домингец, но его слова не несут решительно ничего нового. По всей справедливости, из уважения не только ко мне, но и (в гораздо большей степени) к истине, а также науке и технике, об этом следует оповестить общественность в простых, доходчивых выражениях.
Пока что я не возвращаю Вам документ, но и не подписываю его в присутствии нотариуса. Охотно приму предложенные Вами условия, как только получу от Вашей фирмы подтверждение того, что я – единственный зачинатель и основоположник нового направления в технике. По прибытии такого подтверждения я с радостью подпишу контракт и отошлю его Вам. У меня нет желания слишком глубоко вникать в побудительные мотивы, лежащие в подоплеке действий фирмы «Уильямс и Олбрайт».
Если найдете нужным согласиться на мои условия, то получите контракт обратной почтой. А до тех пор, дорогой сэр, примите уверения в неизменном почтении.
Ваш покорнейший слуга
Вудбери.
В глубине души я не очень-то удивился непреклонности Буки. У старика она в характере. Чего-то подобного я ведь с самого начала опасался. Единожды приняв решение и выразив его энергическим языком, Вудбери упрется на своем, и его не переубедишь никакими мольбами и доводами.
Последнее слово оставалось за Уильямсом. Я направился к нему за советом.
Уильямс начал разговор такими словами:
– Насколько я понимаю, вы получили известия от Вудбери. Вы не похожи на гонца, несущего добрую весть.
– Лучше прочтите письмо сами, – сказал я, – и сами судите.
Уильямс взял письмо. После первых же двух абзацев лоб его собрался в морщинки. Затем он поджал губы и забарабанил пальцами по столу. Потом снова поднес письмо к глазам и стал вчитываться в каждое слово с беспримерным тщанием.
– Ваш Вудбери – занятный тип, – сказал он. – Я нимало не удивлен.
– Как вы думаете, не попытаться ли еще разок? Может, к более щедрому предложению он отнесется иначе. С другой стороны, может, лучше принять его условия и признать его приоритет.
– Нельзя, – сказал Уильямс. – Как только мы это сделаем, вся КИТ окажется всеобщей собственностью. Мы сможем тогда запатентовать кое-что из новых мелочей, с которыми так носится Домингец, но об исключительном праве собственности на всю отрасль уже не придется мечтать. А если мы повысим первоначально предложенную сумму, то навряд ли из этого будет прок. В бытность свою мальчишкой, в захолустье, я встречал подобных людей среди охотников, лесорубов и мелких фермеров. От жизни им нужно немногое, но уж чем они дорожат, так это независимостью. Если такие идут на принцип, их сам дьявол с места не стронет. Я таких людей люблю, я их уважаю. Но я ведь стреляный воробей, в драку с ними не полезу. Не примет Вудбери нашего подношения – так не примет, и все тут. Придется с ним напрочь порвать, а свои интересы отстаивать как-нибудь иначе. Коль скоро открытия Вудбери невозможно запатентовать как нашу нераздельную собственность, надо поскорее упрочить наши правовые позиции. Нельзя же, чтобы конкурент отыскал у нас в доспехах щелочку и отправился за правами на целую отрасль техники прямехонько к Вудбери. Я не боюсь, что Вудбери вздумает строить нам опасные козни. Он уже утвердил свою независимость. Того-то ему и надо. Теперь когда он изложил свою позицию, его меньше всего волнует, как бы превратить ее в деньги. Меня другое беспокоит: как бы конкурирующая фирма не пронюхала лишнего, ведь слухи-то ходят разные. Чего доброго, вооружится такая фирма именем Вудбери, как кнутом, и начнет нас стегать. Если мы этого дождемся и нас потянут в суд, то потом этого за всю жизнь не расхлебать.
– Да, по-моему – тоже, – сказал я. – Кажется, наша карта бита. А я-то верил, что втягиваю вас в удачную авантюру. Но теперь вроде бы ничего не попишешь.
– То есть как «ничего не попишешь»? – возмутился Уильямс. – Надо пошевеливаться, да поживее. Мы ускорим продвижение патентов Домингеца в патентном бюро. Каммингс там все ходы и выходы знает, а у меня большие связи в Вашингтоне. Потом придется пропустить через суды какое-нибудь высосанное из пальца дело и добиться решения в нашу пользу. Этот старый трюк сплошь и рядом осуществляется путем так называемой «дружеской тяжбы». Две стороны затевают гражданский процесс не ради того, чтобы содрать друг с друга шкуру, а с целью установить правовой статут спорного вопроса. Вот и мы так поступим. Только не будем трубить о том, что тяжба – дружеская. Здесь главное – чтобы нам со всей видимой серьезностью предъявила иск фирма, с которой у нас нет явных связей. Выглядеть все должно так, словно они, бросив в бой все резервы, воюют с нами не на жизнь, а на смерть. Мы заручимся услугами лучших адвокатов и квалифицированнейших экспертов. А фирма-истец пригласит второсортных. Я уж и фирму подходящую присмотрел: «Норт-Уэст Энджиниринг». Вы ведь знаете, мы пользуемся изготовляемыми ею деталями. Мы у них – крупнейший заказчик. Для них жизненно важно поддерживать с нами добрые отношения. А организационно у той фирмы нет с нами никакой связи. Мы запросто уговорим ее возбудить против нас полноценный, с виду взаправдашний иск. Приходите-ка ко мне недельки через две. Сообщу вам, как двигается дело.
Я приуныл. У меня не было оснований сомневаться в том что Уильямс распутает любой узел, но меня удручало, что он ничего не намерен сделать для Вудбери.
В моих глазах для операции было только одно рационалистическое обоснование: надежда помочь старикану. Если бы я помог Вудбери, то у меня появилась бы внутренняя линия защиты: я, мол, сделал доброе дело, хоть действовал извилистыми, а порой и сомнительными путями. И не впервые. Положим, не совсем приятно творить добро сомнительными средствами. Тем не менее я давно примирился с фактом: подобный компромисс в духе Макиавелли составляет неотъемлемую часть реального мира, где я живу.
Теперь же до меня дошла вопиющая подлость интриги, в которой я участвую. Перечитывая письмо Вудбери, я корчился от едва скрытого презрения в его тоне. Вудбери не стал наносить удар непосредственно по мне, своему другу. Однако старикан явно разгадал истинную подоплеку всей этой грязной истории.
Лучше бы уж Бука чувствительнее ударил по мне своим острым пером, выказал по отношению ко мне лично всю ту агрессивность, на которую он способен. Тогда бы я считал себя вправе дать сдачи и в пылу потасовки отомстить за оскорбление своей персоны. Теперь же старикан обезоружил меня, вновь заверив в своей дружбе.
Между строк письма притаилась жалость сильного, стоящего выше удач и неудач, к слабому, вынужденному идти на унизительный компромисс. Я сравнил себя с Вудбери, и сравнение оказалось не в мою пользу.
Незадолго до того Уильямс обозвал меня чувствительным чертякой. Пусть стрелял он наугад, но попал в яблочко. Я и вправду был чувствителен, во всех смыслах слова. Я тонко ощущал жизненные факты, характеры людей и их побуждения. Меня больно ранили несправедливость и трагическая ирония судьбы.
Поистине, я был чертякой – дьяволом-искусителем. Безрассудно играл на слабостях бедняги Домингеца. При всей легковесности своего характера, он не заслужил адовых мучений в безличных тисках большого бизнеса. Что же до Вудбери, то желание помочь ему выродилось у меня просто-напросто в никчемную наглость. Душа Вудбери укрыта непробиваемой броней принципиальности, он ничем не обязан [№ 7, c. 40] моим самонадеянным попыткам сочетать добрый поступок с добрым бизнесом.
От копания в себе самом меня отвлекали только раздумья о душевных терзаниях Олбрайта. Уильямс видел в Вудбери достойного противника. Олбрайта же возмущала мятежность старикана и то, как нахально он бросил вызов общепризнанным условностям. Дед Олбрайта заклеймил бы Вудбери как якобинца и левеллера. Сам же Олбрайт объявил Вудбери большевиком. Он негодовал на проявленное Вудбери неуважение к авторитетам.
– Что? – твердил он. – Это жалкое ничтожество, этот простолюдин становится поперек пути великого прогресса? Да еще смеет огрызаться! Можно подумать, он – отец мироздания!
– Не мне его осуждать, – сказал как-то Уильямс. – Обладай я его мужеством, меня бы подмывало поступать точно так же.
– Как вас понимать, Уильямс? – сказал Олбрайт. – Неужели вы потерпите, чтобы из-за наглости этого презренного субъекта наша фирма не осуществила своего предначертания? Иной раз у меня возникают сомнения в вашей привязанности к солидному добропорядочному предприятию.
– Я начинал дровосеком в Андирондакских горах, да и теперь я удачливый дровосек, не более того, – отвечал Уильямс. – Откровенно говоря, точно такими же дровосеками были ваши уважаемые предки, после того как причалил к американскому берегу «Мэйфлауэр», или как бишь там назывался доставивший их иммигрантский корабль семнадцатого века. Я оказался удачливым дровосеком отчасти благодаря собственной предприимчивости, но в гораздо большей степени – благодаря росту страны. А вы, дорогой сэр, – всего-навсего удачливый дровосек в четвертом поколении. Я родился простым человеком и теперь люблю простых людей, если они не так просты, чтобы бояться отстаивать свои права. Но Вам нечего опасаться за свои капиталы. Деньги и преуспевание значат для меня не меньше, чем для вас… даже больше – ведь я-то знаю, каково без них. Если на пути у меня встанет Вудбери, я буду бороться с ним до тех пор, пока не положу на обе лопатки или же не сотру в порошок. Дай-то бог, чтоб до этого не дошло. Я легко становлюсь безжалостным. Вы тоже, хотя щепетильность не позволяет вам в этом сознаться. Но когда путь мне преграждает смельчак – а мистер Вудбери смел, – я охотно воздаю ему почести, прежде чем вступить с ним в единоборство.
С тех пор основным моим занятием стала совместная с Каммингсом работа над деталями патентной заявки. Работа требовала неимоверных усилий, тщательно координируемых на различных уровнях. Я должен был дать Каммингсу общее представление о КИТ и ее перспективах. После этого мы могли вдвоем изучить состояние этой отрасли во времена, предшествовавшие теориям Вудбери.
Приходилось внимательнейшим образом прочитывать каждую из статей Вудбери, выискивая как идеи, так и возможности практического их применения. Надо было просмотреть позднейшую литературу – не только узнать, что там есть, но, главным образом, удостовериться, чего именно там нет и что еще никем не присвоено. Так мы постепенно подошли к непосредственной нашей задаче – оценке работ Уотмена и Домингеца.
Конечно, вклад Уотмена можно было рассматривать просто лишь как часть истории вопроса, но ведь разница-то налицо. Уотмен – наш служащий. Да и помимо того, в конце-то концов, он ведь согласился передавать свои идеи Домингецу в той мере, какая удобна фирме. По этому поводу в нем еще не заглохла обида.
Во всей этой эпопее на мою долю выпала задача двойного перевода. Я должен был общеупотребительным языком выражать технические идеи изобретений, чтобы Каммингс полностью постиг проблематику. Здесь Каммингс брал реванш за отсутствие технических познаний: он обладал бережно взлелеянной способностью мгновенно схватывать новую ситуацию, если только она имела отношение к целям патентования. Второй ступенью перевода было облечение этих идей в язык патентных формул и их пунктов – язык, принятый в правовой охране патентов. Здесь Каммингс был мастаком, а я – понятливым неспециалистом. Вновь и вновь растолковывал мне Каммингс правовые последствия каждой фразы. Пункты формул составлялись по возможности шире, с тем расчетом, чтобы их можно было распространить на новые изобретения, даже те, которые пока находятся в стадии замысла. Но если пункты носят слишком общий характер, если они не подкреплены описаниями конкретных устройств, то их, скорее всего, вычеркнут.
Таким образом, патентная заявка выполняет не только позитивную, но и негативную функцию. Важно очертить конкретные права, на основе которых «Уильямс контролс» будет взимать дань с конкурентов. Не менее важно помешать тому, чтобы эти конкуренты прыгали через нашу голову и, патентуя другие пункты, посягали на те же права. Удачно составленные патентные формулы конкурентов могут привести к тому, что конкурентам и понесут дань за новые изобретения, пусть даже эти изобретения сделаны у нас. Приходится вести подробнейшую датированную документацию, чтобы иметь возможность в любую секунду доказать наш приоритет.
Эти предварительные мероприятия тянулись несколько лет, и лишь тогда нам были выданы патенты. Кроме того, во второй половине подготовительного периода мы с Каммингсом закладывали фундамент для последующей патентной тяжбы. Но Каммингс ни разу в жизни не выступал в суде, а потому мы сотрудничали с неким мистером Картрайтом, на счету которого числилось немало выигранных патентных дел; он постоянно обслуживал фирму «Уильямс контролс» по договору. Высокий и грузноватый, он отличался низким звучным голосом и жреческими манерами, столь благосклонно принимаемыми судьями. Картрайт пользовался доброй славой и был превосходно осведомлен о том, у кого из них какие хобби и слабости.
– Постараемся заручить судью Помроя, – сказал он. – Помрой – член Окружного апелляционного суда по округу Уэст-Сентрал. Нетрудно догадаться, что первичный процесс подпадает под его юрисдикцию. Конечно, первые шаги будут предприняты в районном суде. Мы уж позаботимся, чтобы предварительное слушание дела было там чистой формальностью. А потом, вне всякого сомнения, добьемся того, что решающие действия будут разворачиваться в юрисдикции судьи Помроя. Некоторым судьям доставляет удовольствие поддерживать притязания мелких истцов. Помрой не из их числа. Ему импонируют крупные фирмы, и его послужной список – наглядное тому подтверждение. Смею заверить, я знаю, какой к нему нужен подход. Здесь важнее всего правильно подобрать экспертов. Опытом судебной экспертизы располагают многие, многие давали заключения судье Помрою. По-видимому, наибольшее впечатление производит на него профессор Эванс из Средне-Западного технологического института. Лучше всего – поставить на Эванса. Он первоклассный судебный эксперт. Сложная это штука – быть судебным экспертом. Мало знать предмет, по которому даешь заключение. Надо еще и предвидеть каверзные вопросы, прежде чем они заданы, чтобы тебя не сбили с толку при первом же перекрестном допросе. Нужна уверенность. Неуверенный ответ служит противной стороне приглашением копнуть поглубже и постараться запутать тебя. За Эванса могу поручиться, он выступает уверенно. Вот уж двадцать пять лет как его регулярно приглашают судебным экспертом. Одно это доказывает, что он знает свое ремесло. Судебному эксперту никто не выплатит гонораров, если он не знает досконально, какие показания угодны нанимателю, и не готов давать их без малейших колебаний. Того, кто колеблется или выказывает признаки угрызений совести, никогда не пригласят вторично. Вот и все по нашей стороне процесса. Мне сообщили, что фактически процесс будет дружеским. Незачем разглашать это обстоятельство. Мы многого достигаем, регулируя тактику противной стороны – «Норт-Уэст Энджиниринг», если не ошибаюсь. Важно, чтобы она правильно выбрала адвоката, то есть правильно с нашей точки зрения. Нам нужен человек, который взялся бы за дело серьезно и увлеченно. Нужно, чтобы он вложил в процесс все свои силы. Нужно, даже, чтобы сил этих было порядочно. Пусть только их не будет чересчур много, пусть не превосходят наших. То же самое относится и к экспертам противной стороны. Эксперт, готовый подыгрывать нам за деньги, бесполезен, а если судья разгадает его игру, – даже опасен для нас. Ни к чему нам и какой-нибудь старый осел, многократно терпевший поражение в судах и теперь безнадежно дискредитированный. Нет, нам нужен молодой человек, завоевывающий себе репутацию, новичок в судебно-экспертных игрищах. Пусть он будет совестлив и боится заявить что-нибудь такое, в чем сам не убежден. А там пусть противная сторона пустится во все тяжкие. Все равно, мне кажется, наша возьмет. Есть у вас на примете подходящая кандидатура?
Каммингс обратился ко мне.
– Это ведь по вашей части, Джеймс. Вы лучше меня знаете способных молодых инженеров. Можете ли вы кого-нибудь рекомендовать?
– Дайте сообразить, – сказал я. – Да, кажется, могу. В Дикси-технологическом есть такой Остин. Слишком хорош для своего института. Недолго там пробудет. Юнец многообещающий, но чересчур уж рьян. Воображает себя карающим ангелом с мечом в деснице. А дело достаточно эффектное и романтическое, будет импонировать его высшим идеалам. Я изыщу способ нанять его.
– Предоставьте это мне, – вызвался Каммингс. – Навряд ли здесь возникнут затруднения. Давайте устроим очередное совещание через месяц, идет? Отлично, значит, договорились.
Судебно-экспертные игрища не были мне в новинку, но всегда возбуждали во мне одни и те же эмоции. Какой абсурд! В свидетели, чей долг – говорить только правду, берут наемного гладиатора от юриспруденции! Разумеется, человека не привлечешь к ответственности за дачу ложных показаний на том единственном основании, что он неверно изложил свое мнение. Никому не возбраняется время от времени [№ 7, c. 41] менять свои мнения, и потом, кто же докажет, что в ту минуту, когда человек что-то утверждает, его утверждения не являются его мнением? Не сопоставлять же их с другими, высказанными в другое время, когда ему не возбранялось придерживаться иного мнения.
И все же… жалкое это зрелище. Если эксперт оказывается непокладистым и дает заключения, неблагоприятные для нанимателя, то тут и конец судебной карьере этого эксперта. Репутация его будет навеки подмочена, служебные возможности заметно сузятся.
Я шел на то, чтобы игнорировать хитроумие и даже нечестность всех этих махинаций. Промышленность – та же драка: будешь блюсти этический кодекс строже, чем блюдет его противник, – тебя искалечат. И все же это не по мне.
Я не против лжеца; я против того, кто лжет самому себе. Напыщенность, показные добродетельность и благопристойность сих добропорядочных джентльменов стоят мне поперек горла. Тоже мне еще, эксперты! В средневековом судопроизводстве был для них более подходящий термин. Их называли компургаторами. Помнится, Блэкстон определяет компургацию следующим образом: «Определение или упорядочение репутации клятвенными показаниями со стороны; очищение от обвинения, после того как человек, обязавшийся доказать свою правоту, приводит в суд одиннадцать соседей и приносит присягу в том, что ничего не должен истцу, а затем одиннадцать его соседей, так называемые компургаторы, клятвенно заверяют суд в том, что они добросовестно верят в правдивость ответчика». Чем же действия современных судебных экспертов отличаются от действий компургаторов, кроме того, что у первых не хватает порядочности и духовной честности осознать свою роль?
Теперь, когда правовые проблемы, связанные с патентами Домингеца, благополучно перелегли на чужие плечи, я был волен сосредоточиться на деле, более близком моему сердцу, а именно – на возмещении морального ущерба Вудбери. Попытки закрепить за ним какие-то материальные блага потерпели крах и стали отныне бессмысленны. Зато старикан неравнодушен к почету, к признанию со стороны собратьев по профессии. Все чаще американские конструкторы произносили его имя. Он приобрел известность как исследователь, который, хоть и пишет малопонятные статьи, наметил подход к новым важным идеям. Мне показалось нетрудным уважить его, наградив Фултоновой медалью Колумбийского института инженеров-кораблестроителей.
Я приналег. Начал прощупывать коллег. Положение мое исключительно благоприятствовало затее, так как меня совсем недавно избрали почетным членом ученого совета этого института. Ответы я получал самые разнообразные.
Кое-кто проявил к Вудбери откровенную враждебность. В основном – конструкторы, пострадавшие от его сварливости. Многие оказались равнодушными. В большинстве случаев те, кому не приходилось слышать его фамилию. Но все же подобралась крепкая группа людей, которые высоко ценили Вудбери, – кто под впечатлением его трудов, кто под влиянием пропаганды Паттерсона.
Проанализировав собранные ответы, я решил, что есть прочная база для развертывания кампании. Тогда я посвятил себя задаче искупления грехов.
На первых двух собраниях члены института не проявили особой уступчивости. Но обошлось без бурных дискуссий. Оказалось, что на эту медаль есть и другие претенденты. Но я был преисполнен решимости, и в конце концов моя настойчивость себя оправдала. Года через полтора я с удовлетворением узнал, что Колумбийский институт инженеров-кораблестроителей присудил Седрику Вудбери Фултонову золотую медаль и денежную премию – 1000 долларов. Переслать Вудбери то и другое должен был я как секретарь ученого совета. Этот приятный долг я предпочел выполнить лично.
После изнурительной двухлетней работы поездка в Европу манила меня как желанный отдых. Прежде всего я собирался навестить Вудбери, а уж потом совершить турне по некогда любимым уголкам континентальной Европы. Однако на письмо, в котором я предлагал уточнить дату нашей встречи, Вудбери ответил просьбой отложить наше свидание на месяц или два, так как он еще не оправился после болезни. Соответственно, свой визит к нему я перенес с мая на август, а промежуток заполнил путешествиями.
В Париж мне переслали скопившуюся корреспонденцию. Было и письмо от Уильямса. Вот что он писал:
Дорогой Джеймс!
Закончилась историческая тяжба «Норт-Уэст Энджиниринг» с «Уильямс контролс». Мы победили с триумфом. Помрой выдал чертовски приятное решение, утвердив нас законными владельцами изобретений Домингеца. Я переговорил с Картрайтом насчет того, не подбить ли нам дружественного противника обжаловать решение в Верховном суде, но это – дорогое удовольствие, и Картрайт считает его излишним.
Эванс вел себя молодцом. Умел подчеркнуть именно то, что придает нашим притязаниям наибольшую убедительность. Когда ему приходилось капельку покривить душой против фактов, он высказывался четко и ясно. Старый боевой конь! Никто бы не угадал, по каким пунктам он чувствовал себя на зыбкой почве.
Мы сделали удачный выбор, порекомендовав «Норт-Уэст» остановиться на Остине. Дело свое он знает и внушил судье впечатление, что он – честный человек (каков Остин и есть). Если по тому или иному вопросу у него возникали сомнения, он добросовестно формулировал ответы так, чтобы выразить именно то, в чем уверен, – ни больше, ни меньше. В результате судья Помрой как нельзя лучше понял, по каким вопросам Остин не испытывает особой уверенности. Вынося решение, он сравнил ответы Остина с четкими показаниями Эванса не в пользу первого. Все складывалось к лучшему, процесс вовсе не смахивал на инсценировку. Навряд ли профессора Остина станут отныне наперебой приглашать в качестве эксперта.
Надеюсь, поездка у Вас приятная, а Ваша встреча с Вудбери закончилась ко всеобщему удовлетворению. В конторе Вас поджидает уйма работы. Уотмен ждет не дождется Вашего возвращения.
С наилучшими пожеланиями, искренне Ваш
Мордкей Уильямс.
И вот подоспела пора ехать к Вудбери. Его коттедж я разыскал на глухой окраинной улочке Борнемута. Сам Борнемут представляет собой фешенебельный городок для «высшего среднего» класса населения, городок отставных чиновников да полковников индийской армии. Но даже фешенебельные курьеры и фешенебельные жители нуждаются в обслуживании, а обслуживанием занимаются рабочие и ремесленники, и обслуживающему персоналу надо где-то жить. Коттедж Вудбери находился в рабочем районе, на задворках, почти за пределами городка, вдалеке от заманчивых кварталов, расположенных вдоль пляжей и на берегу моря. Этому каменному домишке неисчислимое множество ремонтов и перестроек придали неказистый вид.
Вудбери вышел встретить меня на порог. Он сильно постарел, поседел и ссутулился, но в нем сохранилась еще прежняя птичья настороженность, так впечатлившая меня при первой нашей встрече. Глухота его тоже прогрессировала, поэтому завязать с ним разговор было нелегко. На нем был чистенький, хоть и заношенный, костюм; жил он в полнейшем одиночестве.
– Вплоть до прошлого года ко мне ходила уборщица, но она разболелась и перестала убираться у чужих. Я пытался найти другую. Оказалось, это слишком дорого, теперь все по дому я делаю сам. Отсюда далековато до бакалейщика, и мне трудно приходилось с припасами. Но вот Билл Томас водит грузовик отсюда в Лондон и обратно. Каждое утро в восемь часов он проезжает мимо меня. Я с ним договорился: он доставляет мне молоко и продукты, вот мне и не приходится слишком уж часто вылезать из дому. А впрочем, вы не для того приехали, чтобы болтать о том, как организован мой быт. И навряд ли вы вновь приметесь улещивать меня, убеждая стушеваться ради мистера Домингеца и душевного покоя великой фирмы «Уильямс контролс». Вы слишком хорошо меня знаете, чтобы еще раз приняться за эти шуточки. Так зачем же вы сюда пожаловали? Только не говорите, что приехали просто от нечего делать или ради моих прекрасных глаз.
– Вы совершенно правы, – сказал я. – Мой приезд не бесцелен. Колумбийский судостроительный институт поручил мне как своему представителю посетить вас и лично вручить вам Фултонову медаль за выдающийся вклад в судостроительную технику.
Я извлек сафьяновую коробочку и показал медаль, сияющую на фоне малинового бархата.
– Вот она, – сказал я. – Для нумизмата не бог весть что, но и не так уж скверна. А главное – свидетельствует, каким почетом пользуетесь вы у конструкторов по нашу сторону океана. Одновременно вручается денежное вознаграждение в сумме 1000 долларов. Держите.
– Погодите, – возразил Вудбери. – Боюсь я американцев, даже дары приносящих. Что вы затеваете? Я-то думал, у вас хватит ума не соблазнять меня больше никакими предложениями, кроме как предложением признать меня единственным изобретателем аппаратуры, которую, к большей выгоде Домингеца, вы приписываете ему. Едва ли вы намерены принять мои условия и признать подлинные факты. Ведь тогда весь миленький заговор рухнул бы как карточный домик. Вы бы лишились всех прав, обманно заполученных с таким трудом. Но вы норовите откупиться от суда своей совести. Хотите одновременно быть подсудимым-взяткодателем и судьей-взяточником. И хотите, чтобы я помог вам протолкнуть эту сомнительную сделку. Нет, не выйдет. Придется вам реабилитироваться перед самим собой без моего участия.
– Но, мистер Вудбери, – взмолился я, – я ведь не утверждаю, что у меня руки чисты, и не прошу, чтобы вы одобряли все [№ 7, c. 42] требования большого бизнеса. Но зачем же наказывать истинных своих друзей? В Колумбийском институте высоко ценят ваши труды. Там хотят вас почтить. Как организация институт абсолютно не причастен к переговорам или, согласен, интригам вокруг ваших изобретений по КИТ. Да и из отдельных его членов мало кто принимал в этих интригах участие как частное лицо. Я же здесь выступаю всего лишь как агент и представитель института. Справедливо ли это, мистер Вудбери, срывать на неповинных людях возмущение, которое вызывают в вас компромиссы других людей? Негодование ваше вполне понятно, но вы – слишком незаурядный человек, чтобы из-за него лишаться чувства справедливости.
Я чуть на плакал.
– Мистер Вудбери, – продолжал я, – нисколько не осуждаю вас за то, что вы возмущены историей с Домингецом. Историю эту инспирировал в основном я сам, и мне за себя стыдно. Вина моя не умалится от того, что я стану уверять, что поступил бы иначе, если бы на меня со всех сторон не напирал мир бизнеса. В этот мир я окунулся по доброй воле. Будь я похож на вас, руководи мною только одна цель, исключающая все прочие мелкие цели, – я бы наверняка не замарался в такой грязной луже. Я не ищу себе оправданий, но умоляю о том, чтобы вы меня поняли. Далеко не все приучены к трудностям так, как вы. В своей жизни вы приносили немало жертв, но, благодаря вашему спартанскому воспитанию, вам эти жертвы не стоили таких мучений, как другим. Меня, например, воспитывали в сравнительном довольстве. Лишаясь привычного довольства, я каждый раз испытывал неподдельное страдание. Я старался достигнуть компромисса с миром – быть может, даже в меньшей степени, чем большинство окружающих. Довольно долго я думал, что это мне удается. Теперь понимаю, что потерпел фиаско. Мои сослуживцы в фирме решили сделать ход конем. Приняв в этом участие и даже в какой-то мере дав толчок, я не вправе отзываться о своих сослуживцах свысока. Сам размах затеи выбил почву у меня из-под ног. Правда, посещали меня сомнения насчет того, примиритесь ли вы с чем-то таким, что умаляет ваш непревзойденный вклад в новые изобретения. Поистине, я надеялся, что возможен будет какой-то компромисс – для вашего же блага. Вероятно, я заблуждался. Не смею испрашивать прощения. Но прошу вас: не распространяйте свое презрение на ни в чем не повинных людей. Я не могу рассчитывать на дальнейшую вашу дружбу. Но умоляю, в память об уважении, которое я к вам питаю и всегда буду питать, не отвергайте этой почести! Не превращайте свой праведный гнев на меня в кнут, которым вы стегаете других!
Вудбери задумался.
– Боюсь, я не все расслышал, – сказал он, наконец, – но главное, по-моему, понял. Не могу согласиться с вами полностью и отпустить грехи вашим друзьям из Колумбийского института. Многие из них были и остаются связаны с фирмой «Уильямс и Олбрайт». И еще большее их число охотно вступило бы в такую же связь, додумайся они до этого вовремя. Тем не менее я, пожалуй, приму медаль, не буду ставить ваших друзей в неловкое положение. Делаю я это не для них, а для вас. Вашего поступка я не прощаю. Считаю его предательским и всегда буду так считать. Зато я уважаю то раскаяние, с каким вы исповедались в грехах.
На обратном пути в Америку у меня было время обдумать сложившуюся ситуацию. Я мог ожидать от Вудбери приема похуже. У него было более чем достаточно причин вышвырнуть меня на улицу, во тьму и непогоду. Насколько я изучил вспыльчивость старикана, с его стороны это было бы логично.
Но Бука не вычеркнул меня из числа своих друзей. Он даже всячески старался расположить меня к себе. При всем том его суровая критика заставила меня подвести кое-какие итоги. Пришлось мне признать, что моя позиция абсолютно несостоятельна.
По-настоящему от великодушия Буки мне не стало легче. Если бы старикан дулся или кипятился (а у него, прямо скажем, были на то все основания), то я бы ответил злом на зло и всю свою несдержанность свалил бы на нестерпимое поведение Вудбери. Не позволив же себе ничего, кроме справедливого порицания, он вверг меня в адскую муку. Путь к душевному избавлению был мне отрезан. Я вынужден был признаться Вудбери, да и самому себе, что извинить меня, может быть, и можно, но уж оправдать – никак. По сравнению со мной Вудбери оказался не только лучшим ученым и лучшим конструктором, но и лучшим человеком.
По прибытии в Нью-Йорк я доложился Уильямсу. Он всячески сочувствовал мне по поводу поездки. Он ведь всеми мерами содействовал хлопотам по присуждению медали Вудбери. Проникся искренней приязнью к старикану. С радостью бы подружился с ним, окажись расклад иным.
Выходя из его кабинета, я столкнулся с Олбрайтом.
– Я вами очень недоволен, – затарахтел тот. – Только что прочел в «Нью-Йорк таймс», что вы ездили в Англию с целью вручить этому типу – Вудбери – медаль Фултона.
– Так и есть, – ответил я. – Медаль единогласно присуждена ему Колумбийским институтом. Я там ученый секретарь, и обязанность вручить эту медаль выпала на меня.
– У вас хватает дерзости, вернувшись, заявить мне в глаза, что вы действительно якшаетесь с врагом фирмы «Уильямс и Олбрайт»! Его наглые притязания и вызывающее пренебрежение уже втянули фирму в судебный процесс. Нас вынудили отстаивать свои права через суд. Я многое могу стерпеть, но только не отсутствие преданности у сотрудника.
Я ничего не ответил. Иначе не сдержался бы и отбрил как следует. Значит, Олбрайт хочет меня уволить, вот как? Навряд ли Уильямс примет это со смирением. Не все будет так, как хочется Олбрайту. Я обрадовался перспективе хорошей драки, драки с нокаутами до тех пор, пока противник не изнеможет, – драки с человеком, восхищение которым не парализует мне рук.
На другой день у меня на столе зазвонил телефон.
– Уильямс говорит, – услышал я. – Тут у меня только что побывал Олбрайт в ужасно расстроенных чувствах. Наплел мне с три короба бессвязного вздору насчет вашего неподчинения и нелойяльности. Хотелось бы выслушать и другую сторону.
Призвав на помощь все свое самообладание, я подробно пересказал Уильямсу последний свой разговор с Олбрайтом.
– Так я и думал, – подытожил Уильямс. – Не спешите прибираться на письменном столе. Не все еще потеряно. Мы с Олбрайтом поговорим по душам. О результатах сообщу. Позвоните мне перед самым концом рабочего дня.
Попозже я разузнал подробности по беспроволочному телеграфу конторских сплетников:
«Входя, Олбрайт прямо кипел, – рассказывали мне. – Я не знал, в чем там дело, но понимал: случилось нечто из ряда вон выходящее. А мистер Уильямс сохранял спокойствие. Он смолчал и позволил Олбрайту изобразить первую скрипку. Олбрайту от этого легче не стало. Он брызгал слюной, но не знал толком, что же говорить. А мистер Уильямс не стал ему подсказывать. Голос Олбрайта разносился по всей конторе. А мистер Уильямс, когда выйдет из себя, тоже не безмолвная статуя. «Джеймса надо уволить, – говорит Олбрайт. – Этот иностранец никогда мне не нравился. Так я и думал, что со дня на день он сыграет с нами какую-нибудь мерзкую шутку. Сколько раз я вам твердил, Уильямс: в фирму следует брать добрых американцев из старинных семейств». И продолжает: «Вы спрашиваете, что такого натворил Джеймс. Что ж, отвечу. Тайком от нас съездил к Вудбери. Не знаю уж, какой заговор они там состряпали. Знаю только, что у Джеймса хватило дерзости вручить Вудбери Фултонову медаль от имени Колумбийского судостроительного института. Объединясь, Джеймс и Вудбери могут натворить немало бед. После такого поступка Джеймсу нельзя доверять». «Я был в курсе визита к Вудбери, – сказал на это мистер Уильямс, – и одобрял его. Джеймс заблаговременно выяснил, как я отнесусь к такому визиту, и получил мое разрешение. А что оставалось делать? Эту медаль открытым голосоваяим присудил Вудбери Колумбийский судостроительный институт, а Джеймс там – ученый секретарь. Да оно и к лучшему. То, что главный инженер фирмы «Уильямс и Олбрайт» занимает такое положение в Колумбийском институте, – большая честь для фирмы». «Не понимаю я вас, – не унимался Олбрайт. – Как ученый секретарь института, Джеймс мог бы заморозить эту премию на корню. А если уж и официальное положение этого не позволило, мог бы выслать медаль почтой. Незачем было лично соваться к Вудбери и обделывать с ним бог весть какие тайные делишки. Я как видный акционер нашей фирмы и ее вице-президент требую немедленного увольнения Джеймса!» Мистер Уильямс взял еще тоном выше. Надо отдать ему должное, умеет он заорать, если по-настоящему разозлится. «Послушайте, Олбрайт, – говорит, – достаточно я от вас натерпелся. Мне уже давно хочется поставить вас на место. Джеймс обо всем со мной советуется, он первоклассный инженер, беззаветно предан интересам фирмы. Обойтись без него мы не можем, да и не собираемся без него обходиться. Джеймс находит, что по нашей вине Вудбери незаслуженно пострадал. Ну и я то же самое нахожу. Судостроительной техникой мы занимаемся не для поправки здоровья, и, если бизнес того требовал, я шуровал немилосердно. Таковы правила игры, и я в нее так играл. А безвозмездная мстительность – бессмыслица. Джеймс крайне недоволен тем, что мы не только стащили изобретения Вудбери из под носа у автора, но и впридачу посягнули на его доброе имя. Если я хоть что-то понимаю в характере Вудбери, первое он стерпит, а второе – никогда. Джеймс хотел хотя бы уважить старика. Я всецело присоединялся». [№ 7, c. 43]
«А если Джеймс за вашей спиной обделывал закулисные делишки?» – спросил Олбрайт. «Я знаю Джеймса, – ответил Уильямс. – и этого достаточно. В делах фирмы он еще ни разу не предавал и не шел на попятный. А если не все наши дела ему по вкусу, то пусть он сам с собой разбирается. Может, и мне они не все по вкусу. Вы объяснили мне, мистер Олбрайт, чего не потерпите, а сейчас я вам тоже кое-что разъясню. Я не потерплю попытки уволить честного служащего только на том основании, что грязное дело, в котором он вынужден принять участие, тяжким грузом ложится на его беспокойную совесть. Джеймс рос вместе с фирмой. Собственно говоря, фирма и есть Джеймс да такие, как он. Это самое ценное наше достояние, вдесятеро ценнее верфей и заводов и неизмеримо ценнее, чем кое-кто из нашего руководства. Вы не впервые наушничаете мне на Джеймса, норовя от него избавиться. Довожу до вашего сведения: если мы от кого-то будем избавляться, то в первую очередь от вас. Вы неоднократно внушали мне, что сантименты в бизнесе неуместны. Согласен. Но лишь благодаря сантиментам да уважению к давно минувшей славе Олбрайтов вы так долго продержались в фирме. Несколькими годами раньше мне не под силу было бы вернуть внесенный вами капитал. Теперь же все коренным образом изменилось, и кресло ваше стоит дороже восседающего в нем человека. Теперь кризис миновал, новый капитал прямо ломится в фирму. Всем ведь известно о новых наших патентах и крупных заказах. За пределами фирмы на фамилию «Олбрайт» всем плевать с высокой колокольни. Джеймс нужен нам, да и мне он симпатичен. Вы мне не нужны и антипатичны. Хотите покинуть фирму – дверь не заперта. И капитал свой забирайте. Но только у вас кишка тонка. У нас вы получите на него больше процентов, чем получили бы, влезши в другую спекуляцию, а для Олбрайта. живущего в двадцатом веке, это немаловажно. Можете убираться на все четыре стороны или оставаться, как угодно. Уйдете – жалеть не станем, а останетесь – будете все делать так, как я говорю. А теперь выбирайте.» Мистер Уильямс распахнул дверь кабинета. Олбрайт еще немножко побрызгал слюной. но насчет ухода из фирмы больше не заикался. Видно, понял, кто здесь хозяин. В дальнейшем за него, пожалуй, можно не переживать.
Уильямс и прежде был в фирме заправилой, теперь же, после поражения Олбрайта, его незамутненное презрение стало еще неоспоримее. Фирма сохраняла название «Уильямс и Олбрайт», но все больше и больше функций ее отходило к «Уильямс контролс». Становилось ясно, что «Уильямс и Олбрайт» превратилась всего-навсего в филиал по судостроению.
Новые патенты завоевали фирме ведущее положение в области управления зенитными орудиями, и наше влияние все шире и глубже проникало в оборонную промышленность многих стран, в том числе и нашей. Это позволило фирме «Уильямс контролс» на голову опередить в электронике всех остальных. Теперь мы на равных началах конкурировали с фирмами, которые освоили эту отрасль промышленности значительно раньше нас.
Поскольку судостроение перестало быть в центре наших интересов, преимущества базы в Наррагансетском заливе сошли на нет. Мы занялись поиском участка поближе к Вашингтону. Решили обосновать лабораторию и цеха там, где налоги ниже, а возможности расширения – больше. Какое-то время я колесил по восточному побережью в поисках такого участка. В конце концов, нашел подходящий в Сиорайте (штат Делавер).
Новые корпуса цехов не отпугивали, как угрюмые строения, неразлучные с былыми традициями фирмы «Уильямс и Олбрайт». Бетонные, с широкими окнами и двускатными крышами, они отличались суровой красотой, нисколько не умалявшей их утилитарности.
Внутри были расставлены станки, приводившиеся в действие электродвигателями мощностью менее 1 л.с., а не уймой трансмиссий и ременных передач, характерной для прежней промышленной эры. Эти цеха можно было содержать в чистоте, хорошо освещать и даже придать им некую привлекательность, не то что их предшественники с неумолчным гулом, опасными для жизни ременными и зубчатыми колесами, едким запахом машинного масла. Корпуса хорошо вписывались в пейзаж местности.
Но меня интересовали не столько цеха, сколько новое здание лаборатории. Уильямс прекрасно понимал, что лаборатория будет истинным сердцем «Уильямс контролс». Он из кожи вон лез, чтобы она стала лучшей в своем роде как по архитектуре, так и по дизайну. Ее тоже выстроили на широкую ногу, не увлекаясь украшательством, по и не допустив, чтобы здание получилось унылым.
Лабораторию оборудовали всем необходимым и по-современному. При ней построили стеклодувный заводик, завод электронных плат, механические мастерские, лаборатории по сборке электронных схем.
Эти подсобные предприятия были укомплектованы пожилыми заводскими рабочими, десятниками и т.п., ушедшими или собирающимися на пенсию, но еще вполне трудоспособными в менее напряженной обстановке лаборатории. Здесь они находились в подчинении у людей, которые не изнуряли их и не дергали попусту.
По моему настоянию создали первоклассную научную и патентную библиотеку не без вкрапления художественной литературы. Уильямс соглашался со мной в том, что увлеченность и преданность сотрудников воспитываются не столько спартанской дисциплиной, сколько тщательным подбором инженеров и научных сотрудников, любящих свое дело. Таких людей не приходится подгонять кнутом. Зато для них много значит приятное окружение. На свои личные средства Уильямс оборудовал комнату отдыха и развлечений, где чуть ли не в любое время суток люди, отработав свою смену, играли в бридж, шахматы или «го».
Год спустя работа в новом помещении развернулась полностью. Мы отблагодарили за него потоком новых патентов и научных статей по контролю и управлению. Свобода творчества напоминала здесь обстановку в хорошем академическом исследовательском институте. Только за этой свободой всегда стояло четкое указание истинных задач лаборатории, а именно – способствовать появлению новых изобретений и процветанию фирмы «Уильямс контролс».
На благоприятную рабочую обстановку Уотмен откликнулся залпом превосходных находок. По серии специальных устройств, каждое из которых было создано для конкретной цели и конкретных условий, он разработал технику ограничителей амплитуды и возвел ее на уровень новой отрасли техники.
Домингец продолжал преподавать в Фэйрвью, но не проходило и недели, чтобы он не заскочил ненадолго в новую лабораторию. Он тоже трудился над ограничителями амплитуды. Здесь он мерился талантом с Уотменом. Почему-то он всегда оставался на втором месте. Уотмен с первых своих шагов в технике окунулся в новые идеи, тогда как Домингец привык к образу мыслей старых инженеров.
Хотел он того или нет, но три четверти миллиона долларов сделали Домингеца значительной персоной. Чтобы сохранить самоуважение, он был вынужден доказывать свою значительность – не раз и не два, а на каждом шагу. Ему это было не по зубам, и на нем сказывалось нервное напряжение. Он становился все сварливее и раздражительнее.
Сотрудники лаборатории невзлюбили Домингеца. Уотмен прилагал все усилия, чтобы быть с ним обходительным, но наши предчувствия полностью оправдались. Молодежь ценила Уотмена не только как первоклассного инженера и ученого, но и как «своего». Он был таков, каким стремился стать каждый молодой инженер, и занимал такую должность, до какой и он надеялся дорасти. К тому же молодежь знала, чьи идеи подхватывает.
Молодежь видела, что заслуженным продвижением Уотмена пожертвовали в угоду настоятельной необходимости, продиктованной бизнесом и его стратегией, и понимала: если кто-то из молодых инженеров выполнит творческую конструкторскую работу, сравнимую с работой Уотмена, ему, скорее всего, тоже придется попасть под начало пришельца со стороны.
По поводу Домингеца отпускали множество горьких шуток и язвительных замечаний. Лабораторское начальство (и прежде всего сам Уотмен) пресекало их, но все же кое-что доходило до ушей Домингеца. Он отлично знал, как мало уважают его даже в стенах учреждения, знаменосцем коего он формально является. Это ускорило духовный распад личности, никогда не отличавшейся силой воли и не бывшей в ладу с собой.
К Вудбери молодые инженеры относились сложнее. Все признавали, что его труды служат основой всех последующих работ по КИТ. Многие считали, что ему не воздано по заслугам. С другой стороны, Вудбери тоже не был причастен к лаборатории. Его существование уязвляло гордость молодежи – гордость за фирму «Уильямс контролс» как центр индустрии КИТ.
В большинстве своем молодежь легко подводила теоретический базис, резко разграничивая научную теорию и изобретение. Молодежь не могла да и не хотела отрицать приоритет Вудбери в теории. Однако она упирала на то, какая пропасть лежит между [№ 8, c. 46] выдвижением идеи и внедрением ее в практику. По мнению молодых сотрудников, Вудбери – не инженер, а ученый, между тем как удачливое конструирование полезнее, солиднее и важнее научного триумфа.
Тут они для удобства забывали о том, какая огромная инженерная деятельность обобщена ранними статьями Вудбери. Он этого не подчеркивал, и им это не было ясно. Они не принимали в расчет того, что причастность Вудбери к технике ограничили бедность и условия его времени и страны.
Под влиянием идеи Вудбери и новых условий работы постепенно начал формироваться молодой ученый нового типа: усердный, трудолюбивый и знающий, но неохотно пускающийся в полет мысли, который унес бы его чересчур далеко от непосредственных обязанностей – изобретать практически полезные устройства.
Как европеец по происхождению и человек постарше, я мало общался с молодыми учеными. Меня одолевала тревога. Я ломал голову над тем, где же будет следующее поколение ученых-инженеров черпать принципиально новые идеи, которые необходимы для дальнейшего развития, но на протяжении многих лет остаются непригодными к практическому использованию…
В поисках таких идей я обшарил университеты и технические институты. У меня даже отпали сомнения в том, что когда-нибудь университеты превратятся в преуспевающие дубликаты крупнейших технических лабораторий. Но это дело далекого будущего, я до этого не доживу.
Домингеца тоже что-то угнетало. Почти все его заботы были личного свойства. Ему надо было многое обдумать. А он непрестанно участвовал в судебных процессах – давал показания в пользу «Уильямс контролс» и ее патентных прав.
Эти обязанности стали ему до того обременительны, что однажды он посмел не явиться на совещание, куда его вызвал Уильямс. Домингецу недолго пришлось дожидаться телефонного звонка. Уильямс потребовал, чтобы тот немедленно явился к нему в кабинет. Мистер Уильямс разговаривал вежливо, но немилостиво.
– Вы пропустили последнее наше совещание. А нам вас очень недоставало. Возник важный вопрос, и нужна была ваша поддержка.
– Я посещаю совещание за совещанием, – сказал Домингец, – а в тот день я себя скверно чувствовал. В конце концов, я не обязан присутствовать на каждой консультации. Не забывайте, что я не штатный сотрудник.
– Любопытно, – сказал Уильямс. – Боюсь, вы забыли условия нашей договоренности.
Он обратил внимание Домингеца на документ, лежавший на столе. Там был такой пункт: «Другая сторона соглашается и обязуется оказывать «Уильямс контролс» содействие в защите ее патентных прав, какое может потребоваться. Издержки по выполнению этого обязательства возлагаются на другую сторону, и судебные процессы, необходимые для выполнения указанного обязательства, возбуждаются ею на свои средства».
– Видите этот пункт? – сказал Уильямс. – Вы добровольно взялись выполнять его за обусловленную сумму. На днях всплыл вопрос об одной лицензии. Нужна была ваша подпись. Нам удалось перенести оформление сделки на следующую неделю, но это причинило нам массу неудобств. Такое не должно повториться.
– Извините, – сказал Домингец. – Я не воображал, что дело настолько серьезное. Но мне не нравится ваш тон, и я не намерен до бесконечности сносить ваши нападки.
– Профессор Домингец, – сказал Уильямс, – я не намерен заниматься словопрениями. Вы подписали этот контракт за обусловленное вознаграждение – три четверти миллиона долларов. Оно теперь у вас в кармане. Сумма кругленькая. Вы не можете жаловаться на нашу скаредность. Но вы приняли на себя определенные обязательства. Обязательства эти не ограничены временем и полностью еще не выполнены. Пока они полностью не выполнены, вы связаны контрактом и должны делать свое дело. Этого я от вас требую и буду требовать. Позвольте напомнить вам другой пункт контракта: «Если по причине правомерного действия, неправомерного действия или же бездействия другой стороны «Уильямс контролс» потерпит убытки, то другая сторона обязуется возместить таковые».
Далее следовали пункты, предусматривающие арбитражное разбирательство претензий по контракту. Когда Домингец прочел и их, Уильямс сказал:
– Вот видите, мистер Домингец, ваши обязательства ясны. Мы намерены требовать от вас буквального их соблюдения. Ну-ну, не кипятитесь. Вы читали контракт, перед тем как подписывать, и подписали его по доброй воле.
– Не собираюсь продавать вам душу, – сказал Домингец.
– Неважно, что вы там собираетесь, – сказал Уильямс. – Меня это не волнует. Я знаю, что вы делаете, и с меня этого достаточно. А теперь, когда мы друг друга поняли, я надеюсь, нам больше не придется возвращаться к этому вопросу. Имейте это в виду.
1932–1934
Домингец понимал, что вопрос снят с повестки дня. Больше ничего не оставалось обсуждать с кем бы то ни было, даже с Селестой. Он пытался изгнать из памяти полученный нагоняй. Тем не менее, он старался утешиться, пусть даже утешение состояло всего-навсего в том, чтобы выдвинуть на повестку дня новый вопрос. Он заглянул к Паттерсону в кабинет – узнать, как идет кампания в его, Домингеца, славу. И с радостью услышал, что очередная статья о механизмах управления Домингеца вот-вот появится в «Нэшнл компэньон». Прочитал верстку и счел материал достаточно хвалебным.
– А кстати, Паттерсон, – сказал он, – что потом? Я ведь знаю, у вас всегда все продумано на два хода вперед.
– Мы чудненько подготовили общественное мнение, – ответил Паттерсон. – Мне кажется, теперь пора сделать книгу о вас и вашей работе. Есть у меня на примете подходящий автор. Реймонд. если не ошибаюсь. Не первый год подвизается в научно-популярной литературе. Год назад отхватил премию Эдисона. Найдется у вас время дать ему несколько интервью?
– Как вы это себе мыслите? – спросил Домингец.
– Работы окажется по горло, – сказал Паттерсоп. – Он остановится в гостинице «Фэйрвью» и ежедневно будет уединяться с вами хотя бы на час, это затянется недели на две. Только так он может изучить вашу подноготную и правдиво отобразить вас в книге.
– Незачем ему в гостиницу, – возразил Домингец. – Я уверен, что он меня не стеснит. Но действительно ли он подходящий человек? Хотелось бы все же предварительно подумать.
– Я-то в нем не сомневаюсь, – сказал Паттерсон, – а вы лучше посмотрите на него сначала, а потом уж решайте окончательно, Не стоит ведь начинать историю, а потом отменять.
– Есть другая идея, – сказал Домингец. – Я уже давно подумываю, не написать ли мне автобиографию. Факты мне известны получше, чем будут когда-либо известны любому другому, и уж наверняка я подам их под нужным соусом. Как по-вашему?
– Идея недурна, – сказал Паттерсон. – Кое-какие ваши статейки для журналов пользовались успехом у читателей. Но все равно, знаете ли вы, на что идете? Книга ко многому обязывает. Где-то на середине она надоест вам до тошноты, и вы отправите ее в корзину для бумаг. Вы уверены, что у вас хватит силенок дотянуть до конца?
– Кажется, – ответил Домингец, – но, конечно, ручаться не могу. Однако у меня и здесь идея. Отчего бы этому Реймонду не пойти ко мне в секретари? Разумеется, основная работа на мне, но он бы избавил меня от массы усилий, занявшись мелочами. Как по-вашему?
– Хорошая идея, – сказал Паттерсон. – Это делается нередко, а иногда и удачно. Позиакомьтесь-ка с Реймондом да посмотрите, подходит ли он вам.
– Само собой, я ему хорошо заплачу, – продолжал Домингец, – но только пусть это не будет такая, знаете, книжонка: «Записал такой-то». Очень унизительно, знаете ли, как будто человек сам не умеет писать.
– Не совсем с вами согласен, – заметил Паттерсон. – Многие из великих людей так заняты, что у них не остается времени на литературную деятельность. А она в высшей степени специализирована; чтобы развернуться и использовать все возможности, нужен опыт. Писатели, которые помогают писать такие автобиографии, любят видеть на титульном листе свою фамилию. Но все же, быть может, вам удастся убедить мистера Реймонда, а он пойдет навстречу вашим пожеланиям.
В конце концов порешили, что Паттерсон передаст Реймонду условия Домингеца. Реймонд поупирался, но кончилось тем, что его уговорили.
Поначалу Реймонд был незаменим для Домингеца: он владел писательской техникой и различными литературными приемами. Но время шло, Домингец оказался способным подмастерьем. Все больше и больше проявлялась его индивидуальность.
В нем скрывался подлинный литературный талант. Больше того, стало ясно, что не техника, а литература – истинное его призвание. Постепенно Реймонд сдавал исходные свои позиции писателя, уступившего авторство другому, переходя на амплуа секретаря и литературного консультанта.
Все, о чем писал Домингец, я знал и раньше, но меня поражали и его литературные способности, и воля, предоставленная его красочному воображению. [№ 8, c. 47]
На первых страницах Домингец описывал детство в Мексике: с одной стороны – чинное, чопорное общество захолустного городка, с другой – необозримые просторы и привольная, полудикая жизнь на огромной «гасиенде». Он ударился чуть ли не в лирику, описывая бескрайние горизонты, где на фоне ясного неба высокогорного плато вырисовывались зубчатые вершины гор. Он писал о том, как спозаранку просыпаются «вакерос» и скачут верхом по степи, сгоняя разбежавшиеся стада. Он передал мгновенный южный восход, когда прохладный утренний ветерок с розовеющего неба вмиг стихает, ошеломленный выплывающим солнцем, когда ковбои снимают «пончос», в которые кутались росистой ночью, и подставляют кожу под первый зной дня. Он отобразил трапезы у костра, шашлыки, полуобъезженных лошадей и жестокую задачу приучить их к седлу, грубовато-добродушную дружбу работников ранчо и тщательную подготовку проворных черных быков, предназначенных для арены.
Отсюда он перешел к школьным дням у отцов-доминиканцев, к крепнущему в нем желанию изведать жизнь окружающего мира и постепенному осознанию того, что он должен заниматься техникой; к бунту против сурового патриархального отца, любящего, но деспотичного; к красавице сестре и ее свадьбе с молодым многообещающим адвокатом.
Сестра всегда была радостью и утешением его детства. Когда миновала счастливая пора ребячьих игр и между мальчиком и девочкой легла отчужденность, единственной его мыслью было: как бы сбросить оковы сыновьего подчинения и попытать счастья в дальних странах.
Домингец писал о том, как он перешел границу и прибился к бродячему цирку, как восхищался бесшабашными наездниками и вступил с ними в состязание, как навыки, приобретенные на ранчо, позволили ему получить первый приз, после чего ему предложили работу. Писал о том, как согласился на это предложение, как ему жилось в цирке, писал о старых циниках-клоунах и молодых здоровяках акробатах, рискующих жизнью не только ради куска хлеба, но и из самолюбия, время от времени получающих увечья от лошадиного копыта или бычьих рогов, но неизменно возвращающихся на арену, едва только раны затянутся.
Рассказал о том, как колесил по шоссейным и проселочным дорогам Северной Америки, пока не устал от засасывающей, но непутевой и бесцельной жизни; тогда он стал откладывать деньги, чтобы осуществить главное свое желание – выучиться на инженера в Цюрихе. Он припомнил первый свой приезд в Швейцарию, когда он практически не знал языка и совершенно не привык к скуповатой жизни в немолодой стране, давно уже отлившейся в устойчивые формы. Он перечислял друзей, которых выбирал среди группы живых и активных юношей, съехавшихся со всех концов земли. Он называл имена выходцев из высокогорных альпийских деревушек, из Германии, Индии, Румынии, а пуще всего распространялся о самом близком приятеле, хоть он и был помоложе, некоем Яковском, уроженце далекой красавицы Одессы.
Он описывал свое убогое жилье на чердаке в старой части города, заботливую, но порой навязчивую хозяйку, которая подкармливала его черным хлебом и сосисками, ухаживала за ним, когда он хворал, и судачила о соседях на простонародном немецко-швейцарском диалекте, едва ему понятном. Он приводил подробности о буднях лекционных аудиторий, о том, как он прилежно занимался у себя на чердаке – без этого было не обойтись, о верховой езде по пастбищам в окрестностях Цюриха, о том, как вечерами субботы или воскресенья, урвав несколько часов от напряженной учебы, пил пиво с приятелями-студентами.
Наравне со всеми студентами – членами пивных клубов, ему присвоили «пивную кличку» – Блицлипуцли, в честь его мексиканского происхождения. В Германии восемнадцатого века так именовали мексиканского бога войны Гицилопохтли, любителя человеческих жертв, весьма популярного в Европе первой половины восемнадцатого века, изображаемого демоном в ранних вариантах легенды о Фаусте.
Домингец поведал о том, как ударился в разгульную жизнь «буршей», жизнь, еще хранящую отголоски традиций средневековья и странствующих школяров, то есть времен, когда молодые священники и послушники со всех концов христианского мира собирались большими непокорными общинами, жаждая знаний и наслаждений. Кое-какие из песен, которые распевал со студентами Домингец, потягивая пиво, сложены еще в ту пору. Эти латинские баллады перемежались более поздними немецкими песнями, тоже [№ 9, c. 37] прославляющими вино, веселье и доступную любовь. Домингец сполна следовал предписаниям этих песен.
Много страниц уделил он поездкам в Париж – мекку всего студенчества. Там кое-кто из знакомых постарше посвятил его в сладкую жизнь и даже ввел в артистические круги.
Затем он писал о нашем десятидневном плавании, когда мы истратили последние гроши на билет. У него все выглядело еще живописнее, если не жалостнее, чем мне помнилось. Он описал тяжелые условия, сон на откидных койках в огромных трюмах, неумолкающий рокот винта. Описал пассажиров – эмигрантов из всех стран Европы, облаченных в разнообразнейшие национальные костюмы. Описал недоброкачественную пищу. Описал, как из-за непрерывной качки в неспокойном океане мы целыми днями не могли проглотить ни кусочка. Описал унизительное положение прибывших иммигрантов, толпами ожидающих на иммиграционных пунктах, пока Америка соблаговолит их принять; рассказал, как их швыряют в водоворот американской жизни без гроша в кармане, так что им нужно срочно искать работу.
Далее следовало увлекательное и чрезмерно расцвеченное, хоть и не совсем вымышленное, описание наших первых кратковременных опытов работы, того, как он в конце концов подыскал себе место в Сиракузах и как там работал. По его словам, сначала его завербовал агент, вертевшийся в порту в поисках дешевой рабочей силы (Диего по тогдашнему своему невежеству не мог за себя постоять) в бригаду землекопов, осушавших болото в окрестностях Куннса. Заработка хватало на скромные текущие нужды. Через несколько недель он цент за центом скопил сумму, необходимую для поездки в Сиракузы (штат Нью-Йорк), в «Копсолидейтид Дженерейторс». Еще из Швейцарии он на всякий случай списался с этой фирмой, когда бомбардировал письмами весь свет, подыскивая себе должность инженера. Фирма ответила, что расширяется и может предоставить ему работу, если он представится лично и его сочтут подходящим человеком.
Денег все же не хватало, чтобы доехать до Сиракуз в один прием, и вообще они кончились, прежде чем он добрался до Олбани. Остаток пути он преодолел, давая представления как канатоходец – это искусство он усвоил в цирке. Потом нашел другую временную работу, ненадолго, пока не смог купить дешевенький костюм и не приоделся для визита в «Консолидейтид Дженерейторс».
Результаты переговоров в фирме были не такими уж обескураживающими. Однако в то время там не оказалось вакантной должности инженера, и Домингец поступил туда простым рабочим, стал ворочать песок лопатой в литейном цехе.
В цехе он ни разу словечком не пожаловался на тяжкий и малоприятный труд, заслужил одобрение мастера. Недели через три его вызвали в отдел кадров. Открывались курсы подготовки для молодых инженеров, и начальство сочло, что Домингецу необходимо пройти такой курс, а потом уж оно сможет судить о человеке со скудным заводским опытом, да к тому же выпускнике европейского технического института. Это была у него единственная реальная возможность, и он за нее ухватился, несмотря на связанное с нею голодное существование, как за первый и необходимый шаг к карьере инженера.
Так он проработал год – спал в дешевой комнатушке сиракузских трущоб, питался только бутербродами с ветчиной да чашкой неаппетитного кофе в буфете фирмы. Изучил начатки американской заводской практики и незнакомой ему американской техники. Потом кончился испытательный срок, и его перевели на должность получше, в чертежную. Спустя несколько месяцев он стал младшим инженером в отделе генераторов.
Он рассказал историю приобщения к церкви Маннинга и о том, какое глубокое нравственное влияние оказали встречи в церкви на всю его дальнейшую жизнь.
В книге Домингец не преминул подчеркнуть эти годы, сделать упор на свое приобщение к Америке и ее свободам. А для этого нужно было обыграть прежнее свое скромное положение. Здесь Домингец не колебался. Можно было подумать, что в Мексике он стоял на три-четыре ступеньки социальной десницы ниже, чем на самом деле. Словесно он этого не формулировал, но такое оставалось впечатление.
Он не упустил случая завоевать благосклонность американского читателя, внушая ему, будто американец – раздариватель щедрот. Рассказал о постепенном своем росте в мире науки и техники. Каждый год отмечался заметным шагом в этом направлении. Так он трудился не переставая, но вот в тридцать пять лет с ним случился легкий сердечный приступ. Ничего серьезного или угрожающего, но стало ясно, что напряженная жизнь инженера – не для него и надо искать более спокойной работы.
Он описал вторую встречу с Маннингом. Они встретились в пульмановском вагоне для курящих и разговорились. На Маннинга вновь произвели благоприятное впечатление обаятельные манеры и разнообразные интересы молодого человека.
Еще раньше Домингец узнал о том, что Маннинга избрали ректором Фэйрвью-колледжа. Вспомнив предложение Маннинга, он ему написал. Через несколько месяцев пришло приглашение на работу в колледж.
В этой части повествования Домингец подошел к тому этапу, на котором полагалось вспомнить, когда же зародились его изобретения. По его словам, ничего нового он в колледже не придумал, все отталкивается от идей, которые бродили у него в голове еще на ранчо.
От железнодорожной станции на ранчо съестные припасы доставлялись в фургоне, запряженном четверкой лошадей. Четверых независимых и норовистых животных надо было заставить действовать слаженно, чтобы они не растрачивали зря энергию как четыре неуправляемые тяговые единицы. По его утверждению, об этом он раздумывал во время долгого пути от станции. Он пришел к выводу, что такую же координацию независимых усилий могут создать и механизмы.
О трудах Вудбери Домингец упоминал в своей книге лишь для того, чтобы принизить их и отречься от них. Он вышел далеко за рамки, необходимые для защиты его патентных прав и прав нашей фирмы. Казалось, непреодолимая сила заставляет его раздувать значение своей личности за счет трудов Вудбери.
Необходимость отстаивать неправду психологически нестерпима. Чтобы ужиться с самим собой, Домингец непременно должен был убедить себя, что изобретение принадлежит ему, а Вудбери – беспардонный посягатель. Темные силы души вынуждали его разжигать в себе вражду к Вудбери, которая далеко выходила за пределы, продиктованные заключенной им сделкой. Причинив зло Вудбери, нанеся ущерб его положению и справедливым притязаниям, он теперь волей-неволей видел лазутчика и врага в опередившем его человеке.
Реймонд был чрезвычайно доволен книгой, которая получилась лучше, чем он ожидал. Он бы предпочел увидеть на ней свою фамилию, но ему щедро заплатили. Он отнесся к делу философски.
Реймонд успел завязать прочные связи в издательском мире. Ему не составило труда воткнуть книгу в осенний план всенародно известного издателя. Книга была достаточно хороша, чтобы быть принятой из-за собственных достоинств. Но не помешали ни поддержка фирмы «Уильямс контролс», ни личное письмо самого Уильямса.
Уильямс следил за тем, чтобы сотрудники фирмы пропагандировали Домингеца и его книгу или, по крайней мере, не срывали пропаганды. На меня он вообще не нажимал. Очевидно, знал, что я принимаю в этой интриге все мыслимое участие, какого только он мог пожелать.
Тем временем пропаганда Домингеца шла как по маслу. Диего обладал врожденным чутьем на то, что импонирует среднему американцу. В нем неожиданно прорезался бесспорный литературный талант.
Книга сразу же приобрела успех. Она заняла почетное место в литературе, стимулирующей изобретательство. Мальчики вчитывались в нее как в серьезный рассказ о том, чего они могут достигнуть в технике с помощью выдумки и трудолюбия. В книге удачно сочеталась авантюристическая нотка с культом популярных богов Америки. Из нее вытекало, что только в этой стране борющейся инициативе воздается должное.
«Ученый на грани познания» оказался золотой жилой для «Уильямс контролс». Он поставил печать всеобщего признания на нашу грандиозную операцию. В нашей кампании по широкой продаже акций и ценных бумаг он сослужил немалую службу. Сделал нас естественными скупщиками новых изобретений в области КИТ.
Раздавался, правда, горький смех младших инженеров, высмеивавших непомерные притязания Домингеца. Уильямс все это [№ 9, c. 38] пресек. Он дал молодым понять, что, каковы бы ни были их мысли и чувства, общественность не должна подозревать о недовольстве внутри фирмы.
Селеста очень смущала меня, расточая благодарность.
– Друзья не понимают Диего, – говорила она. – Он надевает маску самоуверенности, а в действительности не уверен в себе. Представившейся ему возможностью мы обязаны вам. Вы – его открыватель, в душе я не спокойна за Диего. Что-то его тревожит Он еще не совсем свыкся со своим выдающимся положением. Временами даже грозит отказаться от успеха. Хочет уйти в бега, этакий взрослый мальчишка. Не всегда легко удерживать его на должной высоте.
Селеста была старше Диего. С недавних пор здоровье ее пошатнулось. Она скрывала это от Диего. А он был не таков, чтобы замечать кого-то, кроме себя. В конце концов, врачи вынуждены были предупредить его об опасном состоянии жены, о том, что жить ей осталось недолго.
Когда великая цель – создать книгу – осталась за плечами, Селеста перестала сопротивляться болезни. Поняв, как опасно она больна, Домингец стал образцом внимания и заботливости.
Только жена придавала направленность и целеустремленность этой разбрасывающейся, дилетантской личности. В глубине души он это сознавал. При мысли о том, что он может ее потерять, перед ним развернулась зияющая бездна. Он почти забыл о новообретенном успехе и престиже.
В течение последних месяцев ее жизни я старался окружить Селесту помощью и сочувствием. Сам я уж смирился с тем, что использовал Домингеца как орудие. Отлично понимая его наивность и оппортунизм, я оправдывал ими свое предательство.
Иное дело – Селеста. Она пошла на пресловутую интригу, но не из эгоистических побуждений. Сильная по натуре, она всю свою силу бросила к услугам мужа. Для него она охотно сделала то, чего никогда не сделала бы для себя. Должно быть, постепенно она поняла, что путь, по которому я заставил пойти Домингеца, заводит в тупик.
Но вот Селеста умерла, и Домингец оказался между шелухой внешнего триумфа и внутренним ощущением пустоты и тщетности. Между тем на него сыпались литературные премии и лестные слова рецензентов. Не обошлось и без ученых степеней «гонорис кауза». Книга расходилась далеко за пределами Соединенных Штатов.
В Мексике – молодой, не вполне еще установившейся стране, рвущейся к тому, чтобы мир признал ее интеллектуальные достижения, интерес к книге превратился в культ. Разумеется, Домингец получил приглашение приехать на родину и оказать ей честь, разрешив почествовать его, Домингеца.
В сердце Домингеца это приглашение нашло отклик. В воображении оно рисовалось ему годами. Контакты с родиной случались у него изредка, едва-едва теплились. Долгое время он боролся за признание в США, где мексиканское происхождение было для него не козырем, а помехой. Лишь теперь, упрочив свое положение, дерзнул он вспомнить о том, что он – мексиканец, и с триумфом вернулся.
Должен сознаться, я с самого начала сомневался, удачной ля будет эта предполагаемая поездка. Мне казалось, что мексиканская революция – один из исторических барьеров, которые разделяют два совершенно неподдающихся слоя. Диего принадлежал к старым временам испанцев да креолов, крестьян-индейцев и тонких градаций – «замбо», «метисо», «сальтатро» и т. п. (этими словами обозначаются все мыслимые смешения белой, негритянской и красной крови, о которых столько написал Гумбольдт). Все эти реликты причудливой колониальной жизни быстро рассасывались, а пока это происходило, Диего отсутствовал. На расстоянии двух тысяч миль он, может быть, и национальный герой Мексики, но приехав в Мексику, он, как я боялся, станет всего лишь одним из экспатриантов, бежавших ради личных выгод, в то время как их родина пыталась разрешить свои сложные проблемы.
Таким образом, я приготовился к тому, что прием, оказанный Диего в Мексике, не оправдает его надежд. Однако я вовсе не был подготовлен к телеграмме на имя Уильямса, где сообщалось, что Диего Домннгец скоропостижно скончался в маленьком городишке Аглас-Фриас вблизи Зимапана. Новость была загадочна; по-настоящему, толком было сказано только одно: что тело отослано сестре в Монторрей.
– Надо тебе туда съездить, Грегори, – сказал Уильямс, – история какая-то темная. Надо выяснить, что за нею кроется. А главное, нельзя допустить, чтоб получилась какая-то накладка и испортила славненькую рекламу, которой мы добились. Я телеграфировал нашему заведующему сбытом в Мексике, Перецу. Он за тобой присмотрит. Не спеши. Можешь задержаться как угодно долго, изучить мексиканскую промышленность. По возвращении представишь мне отчет.
По мере того как поезд продвигался к Югу, я с радостью наблюдал за таянием унылого грязного снега поздней зимы, ощущал постепенное наступление сначала весны, затем лета.
К его сестре я приехал как раз вовремя, к похоронам. После того, как я долго замерзал в духовных льдах Новой Англии, мне в новинку оказались ритуальные эмоции отпевания. Сестра, облаченная в вечный траур по усопшему мужу, посвятила жизнь религии и добрым делам.
Об обстоятельствах смерти брата она знала немногое. Ее известили без всякой подготовки. Брат погиб от огнестрельного оружия. Полиция столицы предупредила ее, что расследование нежелательно и даже чревато опасностью.
Я направился в Мехико, следуя по непривычным ландшафтам – кактусы, агавы, пустыни, ярко выкрашенные глинобитные домики. Стояла восхитительная весенняя погода. Перец отвез меня к себе домой (дом был прохладный, каменный, с черепичной крышей и внутренним двориком), где мы перекусили в саду под плодоносящими лимонными деревьями. Он был женат на американке, и его лети чувствовали себя как дома и в США и в Мексике.
Перец пригласил к столу кое-кого из друзей. В мою честь разговор велся по-английски. Я видел, что чуть ли не каждый из присутствующих с одинаковой легкостью владел обоими языками.
Беседовали на всякие общие темы, равно интересные для всех. Я не решился завести речь о гибели Домингеца.
Когда гости и члены семьи разбились на пары, а мы с Перецом откинулись на спинки шезлонгов и закурили темные мексиканские сигары, я затронул вопрос о Домингеце. Перец медленно и задумчиво выпустил изо рта кольцо дыма.
– Право, не знаю, мистер Джеймс. Полиция пока не сообщает нам всего того, что ей известно; откровенно говоря, вообще ничего не сообщает. Похоже, она старается замять историю, чтобы не повредить туризму. А может быть, щадит ваши чувства.
– А при чем тут наши чувства? – удивился я.
– Если хотите знать, Домингец здесь произвел неважное впечатление. Его здесь не было много лет. В такое время, когда мы уже разрешили великие проблемы и нам предстоит еще разрешить множество великих проблем, мы считаем, что Мексике принадлежит первоочередное право на услуги каждого мексиканца. Мы плохо относимся к людям, которые уклоняются от службы родине.
Домингец приехал в качестве американского туриста, а мы-то надеялись, что он приедет как мексиканец. Последние двадцать лет, если не больше, он не имел отношения к нашей жизни. И теперь слонялся по Мексике, как пес, потерявший хозяина. Если вам интересно мое мнение, то он, скорее всего, ввязался в какую-нибудь заваруху, в которую настоящий американец не полез бы, потому что не соприкоснулся бы настолько с Мексикой, а у настоящего мексиканца хватило бы ума держаться подальше.
Вот что мне бы хотелось сделать. Давайте я вас завтра отведу на ленч в клуб «Рио-Браво». Это клуб бизнесменов и специалистов, как американских, так и мексиканских. Полковник полиции Рамирец – тоже член этого клуба. Он-то знает, что там произошло. Если вы ему понравитесь, он, может быть, и откроет вам секрет.
Я согласился. На другой день Перец на своей машине заехал за мной в отель и отвез меня по Пасео де ла Реформа в клуб «Рио-Браво». Раньше этот особняк принадлежал знаменитому генералу. Весь в великолепных лестницах, пол украшен мраморными инкрустациями, повсюду глубокие кожаные кресла, превосходный бар.
Решительным шагом вошел полковник Рамирец – высокий загорелый человек в военной форме, подпоясанный офицерским [№ 9, c. 39] ремнем. Он носил свирепые усы в стиле английского кавалериста. Перец нас познакомил.
Рамирец сразу затронул вопрос о Домингеце.
– Дурацкая история, – сказал он. – Если ее слишком долго обсуждать, это повредит доброй славе Мексики. Да и Домингецу тоже, а это, я полагаю, волнует вас куда больше. Этот болван забыл о главных принципах мексиканского быта. Утратил контакт с пеоном. С официантами этого клуба держался до того заносчиво, что удивительно, как никто из них не пристрелил его на месте.
Гонял по стране на своем скоростном автомобиле. Водил его так скверно, что непременно должен был произойти несчастный случай. На днях он мчался по проселку, как вдруг справа, с поля на дорогу выскочил бык. Животное было мгновенно убито – его задело правым крылом. Машина была повреждена, но все же на ней можно было ехать дальше. Чертов болван остался ждать владельца быка. Да-да, поступок порядочного человека, но это значило напроситься на беду. Ему бы следовало знать, что пеон дорожит сыном, конем, быком, женой и дочерью, причем в порядке перечисления. Все мы, мексиканцы, вооружены пистолетами. Когда крестьянин подошел, он, естественно, застрелил Домингеца.
Вы спрашиваете, что станет с пеоном? Для острастки надо посадить его в тюрьму на годик-другой. Ему там будет не так уж плохо. Время от времени жена может его навещать. Но все же за годы его отсутствия ферма придет в упадок. Перец говорит, что на вас можно положиться – вы не затеете скандала. Приезжайте к нам, когда выпутаетесь из этой неприятности. Я вам покажу, как лихо здесь можно провести время.
Я заверил полковника, что заинтересован в скандале так же мало, как и он сам.
По поводу смерти Домингеца наша фирма выразила подобающую скорбь, но втайне мы испытывали немалое облегчение. Легенда о Домингеце успела утвердиться. Теперь мертвый Домингец был нам полезен не меньше живого.
В кое-каких отношениях даже полезнее живого. Ведь всегда оставалась вероятность, что он натворит что-то непредсказуемое. Мог даже, в припадке угрызения совести, отказаться от принятых на себя обязательств. Это оказалось бы пагубным для легенды, над которой мы так упорно трудились.
О мертвых не решаются отзываться дурно. Раньше всякое сомнение в личности Домингеца могло быть ересью в масштабе страны. Теперь оно стало бы осквернением праха. Легенда о Домингеце будет цвести пышным цветом, над ней не нависнет тень человека, способного его опровергнуть. Панегирики Паттерсона могут литься беспрепятственно.
Теперь нам пришла пора увенчать легенду актом, бросающимся в глаза поколения. Крупные корпорации изыскали способ уклоняться от подоходного налога, разумно жертвуя деньги на достойные начинания. Уильямс и Паттерсон решили подъехать к Маннингу с предложением учредить в университете Фэйрвыо большую лабораторию контрольно-измерительной техники имени Домингеца. Маннинг запрыгал до потолка от восторга. Ему подворачивался случай упрочить престиж, подаренный живым Домиигецом, еще большим престижем, исходящим от Домингеца мертвого.
Мы понимали, насколько легко будет заручиться помощью со стороны и как расширит она основу, на которой чтится память нашего покойного. Паттерсон раскрутил кампанию по сбору средств на этот памятник великому конструктору и великому писателю. Кампания увенчалась шумным успехом. Паттерсон помог Маннингу найти архитектора, умеющего воздвигать современные и строго функциональные здания и в то же время обладающего нюхом на все броское и грандиозное.
Мы с Уильямсом приехали в Фэйрвью на церемонию выемки грунта под фундамент новой лаборатории, а также закладки краеугольного камня. В камень вмонтировали герметически закупоренную шкатулку с экземплярами патентов Домингеца и прочими документами, которые, по идее, должны представить интерес для антикваров двадцать первого века.
Новое здание занимало командную высоту на холмике, на окраине городка, там, где прежде расстилались пастбища.
Меня издавна влекли к себе архитектура и строительство. Я не упускал ни одной возможности изредка наведываться в Фэйрвью и следить за всеми этапами стройки. Приятно было видеть сперва открытое поле, потом груды строительных материалов да колышки, очерчивающие площадку фундамента, затем слышать грохот паровых экскаваторов и бульдозеров, вынимающих грунт, потом видеть первые очертания каркаса, а там наблюдать, как каркас завершается, покрывается коконом лесов и брезентовых навесов, позволяющих не прекращать работы в дождливую погоду.
1934–1935
Работы достигли стадии кокона в конце октября. И тут я получил письмо от Ирвинга Блока. Поначалу фамилия Блок не пробудила никаких струн в моей памяти. Но вскоре я вспомнил молодого судового инженера, выступавшего на собрании общества «Руль и поршень», где я познакомился с Вудбери. Привожу это письмо:
«180 Хит-Род, Хэмпстед, Н. 15 октября 1934 г.
Дорогой мой мистер Джеймс!
Вы меня, наверное, забыли, а я вот вас помню очень хорошо. Запомнил со дня (много воды с тех пор утекло), когда я, начинающий судовой инженер, читал доклад обществу «Руль и поршень». То было первое мое выступление перед специалистами, а потому этот день остался для меня знаменательным. На доклад меня подбил Седрик Вудбери, он же позаботился, чтобы меня внимательно выслушали. Вы тоже там присутствовали, вместе с коммодором Кийс-Дартфордом, который, если помните, обошелся со мной довольно-таки круто.
Пишу Вам, чтобы сообщить печальную новость. Мистер Вудбери не здоров. Сказать по правде, врачи не рассчитывают, что он протянет дольше нескольких недель. Как вам известно, он вытерпел немало лишений. Друзья тщетно уговаривали и уговаривают его пойти в дом инвалидов, где ему был бы обеспечен медицинский надзор. Он категорически против, предпочитает умереть, как и жил, ни от кого не завися.
Пока было можно, врач его подбадривал. Но Вы же знаете, всегда трудно было утаивать факты от Седрика Вудбери. На днях он задал врачу прямой вопрос:
– Я умираю, – сказал он. – Вы это понимаете, и я это понимаю. Хорошо бы Вы мне откровенно сказали, сколько еще недель я протяну. Но только откровенно, доктор, у меня остались кое-какие дела, и хотелось бы привести их в порядок.
Поскольку стало ясно, что мистер Вудберп отдает себе отчет в своем состоянии, врач решил не увиливать.
– Боюсь, Вы правы, – сказал он. – Учитывая состояние Вашего сердца. Вы можете отдать концы с минуты на минуту. А можете протянуть еще с полгода или даже год. Во всяком случае, можете твердо рассчитывать на месяц.
В то время я находился в доме мистера Вудбери. Когда врач ушел, мистер Вудбери подозвал меня к своему ложу и попросил помочь ему в его последних планах. Больше всего ему хотелось увидеться с Вами, если представится такая возможность. Он хочет сделать Вас своим литературным и научным душеприказчиком. Хочет, чтоб Вам досталась его библиотека и чтоб Вы позаботились об опубликовании нескольких доселе неопубликованных работ.
Я знаю, Вы очень занятой человек. Вряд ли Вы отправитесь в Англию после столь скоропалительного уведомления. Однако, если у Вас есть хоть малейшая возможность приехать, то Вы окажете огромное одолжение старому другу, который видел в жизни не так-то много радостей.
Буду в восторге, если Вы разыщете меня по приезде в Англию. Вы, наверное, удивлены, отчего мы до сих пор не встречались в Англии – Вы ведь там столько раз бывали. Дело в том, что почти все это время меня здесь не было с тех пор, как мы с Вами виделись. Во время первой мировой войны я служил в резерве военно-морских сил. Ведал судостроительными работами. Потом меня оставили на флоте и перевели в Гонконг, на тамошние верфи. Там я прослужил вплоть до прошлого года, когда меня отозвали в Англию на пост советника в Адмиралтействе. [№ 9, c. 40]
Сообщите, пожалуйста, собираетесь ли Вы в Англию и сможем ли мы увидеться.
Искренне Ваш
Ирвинг Блок»
Меня весьма тронуло, что Вудбери меня помнит и в последние свои минуты, по-видимому, не держит зла. Я разыскал Блока в военно-морском справочнике. Он стал контр-адмиралом и важным советником по вопросам судостроения. Я написал ему, что отправляюсь следующим же пароходом.
Созвонился я с Уильямсом. Он с готовностью предоставил мне отпуск для поездки. В это время года легко было достать билет, так что мне удалось через два дня отплыть на быстроходном судне. Блока я заблаговременно известил телеграммой.
Адмирал Блок встретил меня в Саутгэмптоне. Теперь это был человек средних лет, по-прежнему худощавый и подтянутый, с уверенными манерами, сильно отличавшими его от застенчивого юнца, которого я когда-то видел. Он носил штатское, и левый рукав его пиджака был перетянут черной ленточкой.
– Я Блок, – представился он заново. – К сожалению, вы проделали путь понапрасну. Бедный мистер Вудбери вчера вечером скончался. Похороны завтра. Может быть, желаете присутствовать?
– Конечно, – ответил я. – Жаль, что я не свиделся с Вудбери перед кончиной, но он, наверное, хотя бы знал о моем приезде.
– Не беспокойтесь, об этом я позаботился, – сказал Блок.– Кстати, я на машине и могу отвезти вас в Борнемут. Разумеется, я и сам буду на похоронах. Я заказал для вас номер во вполне сносном отеле.
По дороге адмирал рассказал мне историю, которую я смутно припоминал, но лишь от него услышал во всех подробностях. Оказывается, Вудбери награждал не только Колумбийский институт: общество «Руль и поршень» тоже удостоило его медали Рэнкина. Вручить ее выпало на долю Блока. Даже тут, хоть Блок его никогда ничем не обидел, Вудбери не пожелал принять почетную награду. Уступил лишь после того, как Блок, подобно мне, воззвал к давней дружбе.
В Борнемут мы приехали сырым, унылым ноябрьским днем. Сгущались ранние сумерки. Под последними порывами стихающего шторма гнулись деревья. Ветер гнал по улицам мокрые опавшие листья.
Мы тотчас же отправились в коттедж, где уже обосновались братья Вудбери со своими семьями. Лондонский кондитер Мэтыо облачился в парадный черный костюм. Он стал осанистым, располнел и обрюзг, буйные лохматые седые усы обвисли вокруг рта.
Жена его Мария, постаревшая на четверть века с тех пор, как я ее видел в Лондоне, изменялась в направлениях, которые уже в то время нетрудно было предугадать. Она носила глубокий траур, седые волосы были сколоты неряшливым пучком. Речь ее осталась такой же простонародной, как тогда, и такой же скрипучей, но голос стал надтреснутым. Интонации, как и морщинки на невзрачном лице, выдавали разве что озлобленность. Дети тоже были здесь. В частности, замужняя дочь. В одежде и разговоре она всячески подражала королевской фамилии. Муж ее оказался владельцем маленького гаража в Северном Лондоне, здоровенным, как бык, молчаливым, но явно самодовольным.
Были здесь и двое младших сыновей Мэтью: один – бойкий юнец, работающий в гараже у шурина; другой – младший продавец у Гаррода, учтивый и обходительный. Их подавляла торжественность обстановки и чинное поведение старших, но они нашли случай уединиться в уголке и теперь вполголоса судачили о последних футбольных матчах и о том, какая лошадь придет первой на скачках.
Старший брат Вудбери Артур приехал из Ньюкасла, где бойко торговал в собственной галантерейной лавке. Высокий, суровый, с тощей седой бороденкой, он всем своим видом фарисейской властности наводил на мысль о том, что он, наверное, староста в своем приходе Позднее это мое предположение подтвердил сын Артура, с которым я разговорился, – тонко чувствующий юноша, школьный учитель. Он был восторженным почитателем дяди Седрика, который, тем не менее, не снискал особой любви родных братьев.
Мария мне сказала:
– Рада вас видеть. Печально, что Седрик умер, очень печально. Но для него это – желанное избавление. Он давно уже недомогал и не мог о себе толком позаботиться. Был обузой для себя и для всех нас. Добрые люди говорят, что при желании он мог бы хорошо зарабатывать и хоть сколько-то помогать семье. Мы могли бы им гордиться, но никогда не видели от него добра.
Сухощавое, усталое, старое тело Вудбери лежало в гробу в гостиной, У мертвого бросалась в глаза скульптурная точность лицевого костяка. При жизни я замечал не лицо его, а идеи и мнения.
Меня так поражали его порывистые, птичьи жесты, что мне и в голову не приходило присмотреться, каков же он в состоянии покоя.
Я перевел взгляд на книжные шкафы, которые, когда я их видел последний раз, были битком набиты книгами и бумагами Вудбери. Сейчас полки опустели. Я спросил об этом Марию.
– Книги и бумаги? Знать не знаю. Шкафы так и стояли, когда мы приехали из Лондона. И вообще, там не было ничего стоящего. Просто старый хлам по технике, никому не нужный. Да у букиниста не дали бы и по шести пенсов за штуку.
«Значит, побывала у букиниста», – подумал я. Так или иначе, она уже высказалась. Дальнейшие вопросы я решил адресовать другому члену семьи. Спросил сына-продавца, не знает ли он поблизости какого-нибудь букиниста. Быстрота и уверенность его ответа послужила мне лишним доказательством того, что семейка совсем недавно якшалась с книготорговцем.
Наутро спозаранку я направился к букинисту. Строго говоря, он не был букинистом, скорее торговцем газетами и табачными изделиями. Когда я спросил, не продавала ли ему семья Вудбери книг последнее время, он, восхищенный перспективой напасть на покупателя, охотно показал мне недавно приобретенные тома. Меня не удивило, что цена каждого тома подпрыгнула с шести пенсов до гинеи. Нетрудно было сбить ее на несколько шиллингов, но я рвался приобрести эти книги любой ценой. Я считал непорядочным торговаться из-за коллекционного товара, за который я бы с радостью выложил и более значительную сумму.
Вернувшись в отель, я осмотрел свои приобретения. Половины томов недоставало, так же как и всех писем. Я-то считал, что Мария отнесет книготорговцу все до последнего листика. А он, в свою очередь, не колеблясь продал бы все такому щедрому оптовому покупателю, как я.
Долгое время меня это озадачивало. Потом сын Артура объяснил мне, как все получилось. Когда Вудбери слег в постель, он перенес часть книг и бумаг к себе в спальню. Мария приехала его навестить, застала его уже мертвым и сунула содержимое книжного шкафа к себе в хозяйственную сумку. Проходя через гостиную, она увидела Артура. Он только что приехал, и она сообщила ему о кончине Седрика. Но в его присутствии Мария не посмела разделаться с содержимым книжных шкафов, находящихся в гостиной. Она поскорее ушла из коттеджа – к букинисту. Тем временем Артур наложил лапу на оставшиеся книги и распорядился ими по своему разумению.
Позднее я пытался купить и их, но их уже приобрел Блок от имени общества «Руль и поршень». Лишь много лет спустя обществу удалось вновь полностью собрать бумаги Вудбери.
От букиниста я заторопился в коттедж, где начались похороны. Уже пришел священник-методист – молодой блондин, несколько застенчивый, но строгий, прекрасно сознающий ответственность своего положения. Я воспользовался случаем побеседовать с ним, чтобы расспросить о последних днях Вудбери.
– Я о нем мало знаю, – сказал священник. – Он ведь никогда не посещал нашей церкви. Я заходил к нему во время последней его болезни и доподлинно знаю, что он не был верующим. От его знакомых я узнал, что мистер Вудбери был человек с причудами, но тихий и совершенно безобидный. Бакалейщик мистер Стоун говорил, что мистер Вудбери был тяжкой обузой для родни, особенно для брата Мэтью, который навещал покойного раза два в год. Мэтью не мог не заметить, как опустился мистер Вудбери: от многообещающей юности к жизни, исполненной лености и праздности, угасшей ныне по воле божьей. Господи, помилуй его.
Но вот настало время перекусить перед похоронами. Я заметил, что грустный повод не исключал пристыженной полупраздничной нотки, ибо семье редко удавалось собираться в полном составе. Да и аппетит присутствующих нимало не пострадал.
После трапезы начались последние приготовления к похоронам. [№ 9, c. 41] Церемония началась с положенного отпевания: «Бог дал, бог и взял; благословенно будь имя Господне». Я размышлял о том, как мудро все устроено: убитые горем близкие утешаются благородством и обезличенностью положенных фраз. Звонкие слова молитв отвлекли наше внимание от печального события и устремили его на торжественное, прекрасное и всеобщее.
Как нередко случается в нонконформистской службе, вторая часть церемонии была посвящена тому, что обычно называется восхвалением усопшего. Здесь священник очутился на непривычной почве, и это сказалось. Он говорил о безобидном, жалком старике, оторванном от семьи, отдалившемся от церкви и жившем беспомощной, никчемной жизнью. Он молился о том, чтобы бог смилостивился над смиренным грешником, простил ему пороки и эгоизм, взял, невзирая на бесчисленные грехи, на небо, которое, как ни прискорбно, занимало лишь ничтожное место в мыслях усопшего.
На похороны я не остался – так был подавлен. Остаток дня провел, разыскивая соседок, собирая крупицы их воспоминаний о Вудбери (считал это богоугодной задачей). В частности, отыскал Билла Томаса – того самого, который оставлял у дверей Вудбери молоко и припасы. Томаса дома не оказалось, но жена сообщила, что в этот час его скорее всего можно найти в трактире «Повозка и лошады». Там я нашел Билла: он смотрел, как мечут стрелы, и потягивал пиво. В бойком коротышке Томасе все изобличало бывшего солдата.
– Вудбери, – протянул он. – Ах, вон что я ему возил провизию. Нет, близко не был знаком: безобидный-то он безобидный, а разговаривать с людьми не любил. Но все равно, беднягу нельзя было не пожалеть. Задавался он, что было, то было, а все равно, не настоящий джентльмен, не то что полковник Уорфилд. Вот кто был пуккасагиб. В Индии я у него служил денщиком. А вот Вудбери – не настоящий джентльмен. Не сливки общества, если вы меня понимаете.
У меня камень с души свалился, когда я выбрался из удушливой обстановки, где все сделанное Вудбери теперь ничего не стоило, и вернулся к деловой сутолоке фирмы. На моем столе скопилась груда писем. Некогда было думать мрачную думу.
Весной, когда закончился семестр, я поехал на церемонию открытия новой лаборатории имени Домингеца, как представитель фирмы «Уильямс контролс».
Университетский городок Фэйрвью предстал передо мной во всем своем великолепии. Теплая погода покрыла темно-зеленой листвой вязы и хмуро-рыжей – буки, получился мрачноватый, но пышный навес. Накануне ночью выпал обильный дождь, так что ухоженные цветы на клумбах красовались в бриллиантах росы. Тенты и палатки для гостей белели на изумрудном фоне лужаек, как цветы покрупнее. Перед строгим – железобетон и стекло – зданием новой лаборатории были рядами расставлены аккуратненькие, пахнущие лаком складные кресла для гостей. То тут, то там занимал место ранний гость.
Я поднялся на помост и сел рядом с Уильямсом и Олбрайтом. Ораторская трибуна, да и весь помост были завалены цветами. Ректор Оливер Маннинг, в новой, специально сшитой мантии, отороченной золотым кружевом, дважды постучал председательским молотком, объявляя митинг открытым.
– Мы собрались, – сказал ректор Маннинг, – чтобы почтить память великого ученого и великого человека, приемного сына Америки. Среди тех, кто от щедрот своего неуемного воображения наделил мир новыми силами и новыми богатствами, он занимает высокое и почетное место. Мы горды тем, что группа товарищей, а также руководителей контрольно-измерительной индустрии позволила нам уплатить долг его памяти и пойти вперед по пути, который он указал.
И все же наипаче я бы воздал хвалу не многообразным дарам, которыми Диего Домингец осыпал наше будущее, не идеям и не материальному воплощению этих идей, а самому Диего Домингецу. Преданный и упорный, он был верен университету Фэйрвью, верен любимой Мексике, даже после стольких лет разлуки, превыше всего – верен Соединенным Штатам Америки и неустанно создавал новое оружие для их защиты. Это был человек большой души.
Его скромность, непритязательное терпение и простоту, его преданность всему тому, что есть лучшего в наших лидерах, кем бы они ни были – государственными деятелями или простыми солдатами, а наипаче всего кристальную честность и принципиальность – все эти качества я не восхваляю, ибо они превыше похвал. Терпение и упорство, с какими он вдребезги разбивал ложные притязания зарубежных клеветников, поистине достойны его. Вспомните, как благородно он вел себя, встретив такие притязания, как упорно отстаивали суды его оригинальность и гениальность, как подтверждали его законное право на творческие открытия, которые он по праву считал своими.
В своей великой книге «Ученый на границе познания» Диего Домингец осуществил другое свое предназначение в жизни нашей страны. Он благородно изложил на бумаге то, что благородно сделал. При этом он вплел одну красочную нить в переливчатый шелк американской прозы. Он приковал глаза американского юношества, падкого на приключения, к величайшему из приключений – к служению прогрессу и американскому народу в лабораториях и цехах. Он научил молодежь думать об этом служении с тем же романтическим пылом, с каким она прежде думала о романтике морских просторов и свободной, независимой жизни на фронтирах.
Кто скажет, скольких юношей завербовали его заповеди и пример на службу науке, стране и промышленности? Кто знает, скольких отвратил он от лживых посулов коммунизма, социализма и безбожия, скольких приохотил к нашим великим установлениям?
Пока я выслушивал панегирики Маннинга, мне на ум все приходила пародия Сквайра на «Элегию на сельском кладбище». Мысленно я вернулся к убогой церемонии, с которой Вудбери отправился к праотцам. Кончина Вудбери наступила после длительного пути героического творчества, невзирая на бедность, чуть ли не нищету, быта. Среди великих имен деятелей науки ему обеспечено бессмертие. Его уже признали одним из величайших инженеров всех времен. А умер он, заброшенный склочной родней и приниженный отпевающим его священником.
Теперь я присутствовал при апофеозе Домингеца. Его возвели в герои в угоду интересам некоей коммерческой фирмы и некоего ректора, охочего до славы. Он сознательно принял богатство и известность как часть сделки, низость которой отчасти и сам сознавал. В своих мемуарах он осветил Вудбери несправедливо, даже с поношениями. Такая мелочность отрезала ему последнюю надежду на благодать.
Я задумался о том, насколько противоположны эти двое. Один – Прометей, который принес людям божественный огонь, бросив вызов богам – великим богам бизнеса. За этот вызов он был прикован к захудалому Кавказу нищеты, где коршуны терзали его внутренности. Но он сохранил ясность рассудка и мужество.
Если Вудбери – Прометей, то кто же Домингец? Не кто иной, как доктор Фауст. Но не человечный, всепонимающий Фауст Гете, которого не смог погубить черт, не смог проклясть Иегова. Нет, Домингец – мишурный, театральный Фауст Марлоу. Пожертвовав душой, он получил богатство и власть, предоставленные современной магией науки.
Он отчаянно боролся за славу и признание. Лет через пятьдесят, а может, и двадцать пять он станет одним из тех лжегероев, россказнями о подвигах которые кишит история, в частности история науки.
Итак, мысленно я увязал Вудбери с Домингецом. А какова же тогда моя роль? Если Домингец – Фауст, то я, безусловно, дьявол-искуситель. Я сыграл роль Мефистофеля, но все же по сравнению с Мефистофелем выглядел убого. Даже Мефистофелю, вышедшему из-под пера Марлоу, далеко до исполинского величия Милтонова Сатаны, но тем не менее первый – князь тьмы, последовательно творящий зло. Я же был так – ни рыба, ни мясо. Я предал своего героя Вудбери и своего товарища Домингеца. А главное – предал свою совесть и инстинкты порядочности.
Отныне жизнь моя превратится в тайную эпитимию. Я уже не молод, вышел из того возраста, когда можно надеяться искупить свои грехи, впав в праведность. Силы мои на исходе. Жизненный баланс подведен. Осталось лишь уступить место молодым в надежде, что они не повторят моих заблуждений.
Грегори Джеймс
[№ 9, c. 42]
![]()
Источник:
Изобретатель и рационализатор. – 1974. – № 9. С. 43.
![]()
Имя американского ученого Норберта Винера пользуется широкой известностью как одного из основателей современной кибернетики, ее популяризатора и пропагандиста. Основная специальность Винера – математика, и в ней он также создал ряд значительных работ. В 1955 году Винер закончил второй том автобиографии «Я математик», где рассказал о своем пути в науке. Уже в этой книге (русский перевод изд-ва «Наука» в 1964 году) видны литературные способности автора. Винер признается в предисловии, что и сам не понимает, какие причины побудили его взяться за эту литературную работу, которая ничего не может прибавить к его репутации ученого. Возможно, здесь сыграло роль писательское тщеславие, но характерно само его беспричинное желание писать, свойственное именно литературному дарованию. В этом смысле еще более интересен роман «Искуситель». Если и здесь Винер хотел доказать, что «как человек и ученый, я могу чего-то достигнуть и за пределами избранной мной сферы деятельности» (Винер Н. Я – математик. М., 1964. С. 6), то надо признать, что это ему удалось.
Однако роман «Искуситель» любопытен не только тем, что принадлежит перу крупного ученого. Произведение это не литературное чтиво, изготовленное ради доказательства: «И я могу не хуже других». Роман Н. Винера серьезная, добросовестная, если так можно выразиться, работа, имеющая самостоятельный литературный и познавательный интерес. Это роман об изобретателях, об американских промышленниках и ученых 20–30-х гг. Он посвящен «тем из изобретателей, кто житейским благам предпочитает истину». Посвящение это адресовано, по сути, лишь одному из героев романа – изобретателю Вудбери. И характер Вудбери, и история его жизни довольно-таки традиционны. Вудбери – фигура «типичного изобретателя»: гениальный самоучка, непризнанный, не от мире сего, чудак с невыносимым характером, презирающий деньги, не идущий на сделки и т.п. При всем этом наборе, казалось бы, привычных штампов Вудбери получился, пожалуй, наиболее живым и цельным из персонажей романа. Он глубоко симпатичен своей честностью, непримиримостью. Происходит это во многом за счет действий, которые разворачиваются вокруг него, как на сцене: играет не сам король, а окружающие играют короля. Частная история Вудбери раскрывает куда более значительную историю беспощадной эксплуатации талантов а капиталистическом обществе. Автор с методичностью исследователя посвящает нас в механизм хищнических операций, которые проводит фирма, ее хозяин Мордкей Уильямс и его помощник Грегори Джеймс по присвоению идей Вудбери. Ради этого фирма не останавливается ни перед чем и, как говорится, не жалеет затрат. Создают ложную репутацию, раздувают славу Домингеца, покупают его без его ведома, превращают в бутафорию, в чучело гения. На наших глазах уничтожается личность. Домингец был ни плохим, ни хорошим, просто человеком, заурядным преподавателем, беда его состояла лишь в том, что он был другом Грегори Джеймса. Это его погубило. Грегори вспомнил о нем, когда фирме понадобилось подставное лицо. Дружба – удобная возможность для обмана. Посредственность награждается, получает ни за что огромные деньги. Талант обворовывается. Труд присваивается… Бессовестно грабит Грегори второго своего друга, способнейшего инженера Уотмена. Смещаются, уродуются все ценности жизни, нормы морали. Причем все это совершается с некоторым даже нравственным обоснованием, в условиях как бы душевного комфорта.
Мы имеем возможность видеть действия «изнутри», глазами Грегори. Он не считает себя виновником обмана и гибели Домингеца; ограбление, эксплуатация Уотмена также почти не смущают его душу. Единственное, что несколько тревожит его совесть, это Вудбери. Его он побаивается, его хочет задобрить. И именно эти слабые движения совести открывают весь цинизм жизни, в который погружены герои. Интересы фирмы прикрыты ловкими доводами так называемой деловой этики. И ведь и Грегори Джеймс, и его покровитель и шеф Уильямс, оба они проявляют щедрость, широту, благородство, оба кажутся себе порядочными людьми, и угрызения совести у них тоже, казалось бы, признак порядочности, и уж, во всяком случае, они борцы за прогресс, они благодетели человечества. Вот эта нравственная глухота, слепота, бесчувствие, удивительные для советского читателя, хорошо показанные автором, независимо даже – задумано ли это или же получилось непроизвольно.
Действие романа происходит в двадцатые – тридцатые годы, перед кризисом, но картина нравов в значительной мере характерна и для нынешнего капиталистического делового мира США. Особенно интересно и со знанием дела показаны секреты сложных махинаций, связанных с патентной борьбой. Права изобретателей, так, казалось бы, тщательно охраняемые законом, на деле всего лишь юридическая головоломка, которую может в своих интересах решать достаточно предприимчивый капиталист. И здесь все можно купить. А если нельзя, то все равно покупается, только подороже.
Сюжет романа «Искуситель» в этом смысле держится не столько на характерах героев, сколько на читательском интересе к тем комбинациям, к той системе уловок, подкупа, какие применяет фирма, чтобы выиграть… Выиграть что? К сожалению, где-то здесь разоблачительский пафос романа иссякает. Нравственного осуждения не происходит. Вернее, не столько осуждения, сколько крушения. Все кончается на изобличении закулисных интриг, так сказать, фактов подоплеки этого преступления. Преступники никогда не будут посажены на скамью подсудимых, они юридически застрахованы, они безнаказанны. Тем более ценны те обвинительные показания, которые дает автор, те факты, которые он оглашает…
При всей ограниченности авторской позиции суд над бесчеловечностью капиталистической индустриализации происходит. Под судом не технический прогресс, а его методы, цена, какой он свершается.
Можно предъявить немало художественных претензий к роману. Есть в нем некоторая заданность, заложенная уже в посвящении. Мало мотивированы изменения, которые происходят с Домингецом, история его гибели написана как-то наспех, случайно. Вообще там, где автор отходит от главной своей темы, изображая, например, семейные отношения Домингеца, он впадает в сентиментальность, мелодраму, литературщину. Но его это и не занимает. Стиль, язык, детали, портреты – вся эта, так сказать, литературная технология ему не нужна, ему как бы некогда ею заниматься. Можно подумать, что главное для него – это информация. Сегодня многие читатели пытаются расценить художественную литературу как источник информации. Понятием, кстати, порожденным кибернетикой того же Винера. Однако, думается, все же не это побуждало Винера писать роман – не просто информация. В романе сильно благородное чувство гнева и протеста против удушающей атмосферы подлости, бесправия, в которой приходилось, да и приходится, творить многим ученым капиталистического мира. Особенно, если они хотят остаться независимыми, как Вудбери, если они не продают своего человеческого достоинства и таланта.
Винер прекрасно знал эту сторону американской жизни, и тем более ценна картина обвинения, нарисованная этим замечательным ученым и талантливым человеком.
![]()
|
||||
каталог |