Глава 18 |
Сведенияоб авторах |
|
||
Оглавление |
![]()
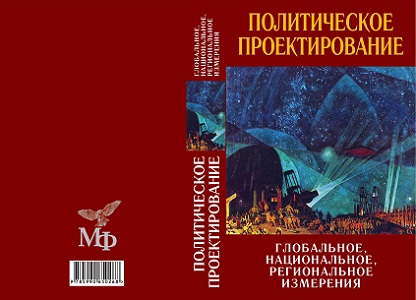
Борисов Н.А., Грачев М.Н. Заключение // Политическое проектирование: глобальное,
национальное, региональное измерения / под ред. М. Н. Грачева и Н. А. Борисова. –
М.: Мир философии, 2016. – C. 447–451.
![]()
Глава 18 |
Сведенияоб авторах |
|
||
Оглавление |